«Русский стиль». Новые тенденции в русской архитектуре конца XIX в.
Одной из наиболее сложных и противоречивых проблем в русской архитектуре периода эклектики является проблема, связанная с поисками национального стиля. По этому поводу осталось более всего прямых высказываний современников, наибольшее число специальных трудов было издано в XIX столетии, сохранилось множество проектов и реализованных сооружений. Главные произведения этого направления, восторженные характеристики современников и суровые оценки потомков уже не составляют тайны и доступны всякому, обращающемуся к специальной литературе 1. И вместе с тем в оценке этого направления и его отдельных течений еще недостает той четкой дифференцированно, которая свидетельствовала бы об исчерпанности этой проблемы исследователями 2. Начать с того, что самые термины, которые приняты для их обозначения, при всей их разнообразности еще очень неточны.
Так, например, как уже отмечалось выше, введенное современниками наименование «русско-византийский», а чаще «византийский стиль» обозначало такие различные образцы, как, с одной стороны, «тоновская архитектура», не имеющая ничего общего с византийскими прототипами, и с другой — более поздние сугубо подражательные сооружения, исходящие из кавказских и балканских прообразов.
Но если под «византийским стилем» все же имелись в виду явления, достаточно близкие по своей идейной и социальной сущности, то более широкое понятие «русский стиль» объединяло явления еще более неоднородные, начиная с романтических «пейзанских» придворных построек 1820—1840-х годов и кончая более демократическими массовыми деревянными сооружениями и уникальными выставочными павильонами 1870-х, а также крупными общественными сооружениями 1880-х годов.
При этом если сами современники достаточно точно дифференцировали по внутреннему содержанию эти различные течения, объединяемые названием «русский стиль», то впоследствии разница между ними уже переставала восприниматься. Так, в начале XX столетия их совокупность стала обозначаться как «псевдорусский стиль» в противоположность «неорусскому стилю», относящемуся уже к новой архитектурной эпохе модерна. Но и этот термин, имеющий уже достаточно выраженный оценочный смысл, впоследствии нередко заменялся еще более отрицательными — «ложнорусский стиль» или даже чисто разговорным — «псевдорюсс». Эта приставка «псевдо», никогда, естественно, не употреблявшаяся современниками, свидетельствовала как бы о изначальной несостоятельности этого «стиля», о его вторичности и об условности самого этого наименования. Между тем в момент своего возникновения понятие «русский стиль» имело вполне прямой и безусловный смысл, знаменуя собой определенные творческие поиски в новой архитектуре России второй половины XIX в. Термин «русский стиль», принятый современниками, приобретал при этом как бы особое живое наполнение, знаменуя «сегодняшний день» архитектуры того времени, а не просто очередную ретроспективную попытку расширения арсенала исторических первоисточников. Правда, при этом самая природа архитектуры периода эклектики была причиной того, что поиски национальных форм в современной архитектуре облекались в буквальную, подражательную форму и что архитектурным «мотивам» придавался определенный содержательный смысл, исходя из прямых литературно-художественных ассоциаций, связанных с той или иной исторической эпохой.
Сущность этих попыток была выражением тех, более общих тенденций, которые были свойственны всей европейской эклектике в целом. Присущий эпохе рост национального самосознания, что нашло, например, яркое выражение в практике периодических всемирных выставок, отражался и в стилевых поисках современной архитектуры, исходящих из осознания необходимости развития определенных национальных традиций зодчества. Эти поиски так или иначе противопоставлялись определенной общей направленности европейского зодчества, все более явно приобретавшего некие космополитические черты. Эта двойственность эклектики, совмещавшей в себе различные, прямо противоположные тенденции, по-разному сказывалась в архитектуре отдельных стран. Если в Англии попытки сохранения самобытных черт облекались в создание новых воплощений готического зодчества, если в ряде стран Западной Европы архитектура эклектики неминуемо приобретала тот особый характер, который придавали ей преобладавшие в той или иной стране архитектурные традиции определенной исторической эпохи, то в России дело обстояло еще сложнее. Хотя получившие большое распространение общеевропейские «стили» эклектики, такие, как «барокко», «ренессанс» и т. д., в трактовке русских зодчих приобретали специфический характер, почти не позволяющий спутать их с европейскими образцами, этот оттенок своеобразия казался все же несущественным и недостаточным. Постоянное противопоставление общеевропейских течений эклектики, как бы не имеющих традиции в России и исторических корней в русском зодчестве, тем поискам, которые велись в этой области в связи с освоением древнерусского народного зодчества, предопределили ту особую роль, которую стал играть «русский стиль» как зримое воплощение присущих всей эпохе тенденций. Так общие для всей европейской архитектуры процессы получили в России конкретное выражение в формах, уже далеких от европейских, хотя в поисках своего «национального стиля» русские зодчие не могли не исходить из тех же формальных закономерностей, которые были свойственны эклектике в целом. Эти поиски были поддержаны той общественной атмосферой и теми явлениями в художественной жизни, которые были связаны с утверждением национального характера русского искусства в самых различных его областях.
Как уже говорилось, одной из особенностей русской архитектуры этой эпохи было то, что она не только необычайно чутко отражала изменения в художественном мышлении, но и во многом зависела от тех социально-общественных идей и воззрений, которые были характерными для отдельных этапов исторического развития России. Почти наглядным отражением этих сложнейших, нередко очень противоречивых идей были различные «национальные» направления русского зодчества второй половины XIX в., иногда прямо противоположные по своей внутренней сущности, сосуществовавшие, переплетающиеся или, напротив, антагонистические, вытесняющие и сменяющие друг друга на разных этапах этого периода. Нередко принадлежность к тому или иному течению позволяла современникам судить не только о профессиональных творческих взглядах отдельных зодчих, но и об их общественных идеалах и пристрастиях, а самая борьба этих течений наглядно отражала особенности общественно-исторического развития России второй половины XIX в.
Выше уже говорилось о той роли, которую сыграл романтизм в формировании новых эстетических взглядов во второй трети XIX столетия в европейской, и в частности в русской архитектуре. Важнейшей особенностью последней оказалось то, что сохранение идей романтизма продолжало определять развитие отдельных ее направлений на всем протяжении XIX столетия. Как ни парадоксально говорить о романтизме в применении к прозаической архитектуре эпохи капитализма, тем не менее отдельные направления русского зодчества того времени и те стилистические поиски, которые в ней велись, наглядно свидетельствуют, что при всей сложности, многосоставности идей романтизма он сохранил позиции в русской архитектуре вплоть до начала XX в., получив, в частности, своеобразное преломление в зодчестве модерна. Многосоставность, неоднородность и противоречивость романтических течений в русском зодчестве рассматриваемой эпохи во многом были следствием того, что расцвет романтизма в русском искусстве 1830-х годов пришелся на годы политической реакции, что и предопределило в дальнейшем совершенно особое значение романтизма и то расслоение этого понятия, которое было особенно наглядным в России.
«Правительство наше себе даже приписывает русское направление, хочет забежать вперед всякому новому движению, даже в литературе, и парализовать его, наложивши на все казенную печать» 3 —эти слова, написанные в последний год николаевского царствования, во многом объясняют причины того расслоения, которое сохранялось в «русском
стиле» на всем протяжении XIX в. Официальные направления, и в частности различные модификации «византийского стиля», были во многом близки по духу выспренним «патриотическим» пьесам Н. Кукольника, выражавшим те же идеи:
«...Внизу лежит обширная Москва,
Вокруг нея теснятся города,
Огромна Русь от моря и до моря!
Орлы сидят на четырех концах!
На севере безбрежный океан,
На юге — нет конца! Все это Русь!» 4
Но этой официальной линии «русского стиля» противостояло живое движение новых демократических тенденций в художественной жизни России второй половины XIX в. В отличие от официальных ретроспективных устремлений, нашедших выражение в «византийском стиле», эти тенденции, исходящие из романтического понимания народности, выражались в постоянном обращении художников, музыкантов, архитекторов к народному творчеству. Знаменовавшее собой «открытие» огромного пласта современной национальной художественной культуры, обращение к народному творчеству было во многом связано не только с претворением его художественных традиций, но и со стремлением к приобщению к народной жизни, характерным для очень многих сторон социальной и культурной жизни России, в особенности в пореформенный период, и в свою очередь было связано с просветительской ролью искусства. Эти общие тенденции получили в архитектуре особое, наглядное и конкретное, хотя и более внешнее истолкование, что во многом объяснялось спецификой этого вида искусства. Поначалу это выражалось в романтизации народного быта и в создании идеализированных образцов крестьянского жилища, возникших, как уже говорилось выше, еще в 1820—1840-х годах. Но если первые деревянные постройки в «русском вкусе» — «пейзанские» избушки в пригородных резиденциях, построенные такими мастерами, как К. Росси, О. Мон-ферран, А. Штакеншнейдер, еще вызывают ассоциации с идеализированными образами романтических баллад Жуковского, если знаменитая Погодинская изба в Москве (1850-е годы, арх. Н. В. Никитин) еще может быть уподоблена русской поддевке, которую так демонстративно носили дворяне-славянофилы, то в дальнейшем это движение приобретало все более широкий, реальный, далекий от мистификации и игры характер. Разница здесь заключалась не столько во введении новых типов зданий, новых композиционных приемов и новых вариантов декоративных форм, но и во все более демократической направленности, состоявшей не только в характере избираемых народных прообразов, но и в чем-то более глубоком — в противопоставлении единичности, рафинированности первых построек в «русском вкусе» поискам образного языка, пригодного как для массовых деревянных сооружений нового типа, так и для уникальных зданий, одинаково понятного не только изощренному в искусстве человеку, но и народу. Эти во многом утопические поиски, которые велись уже с конца 1860-х годов, были в чем-то близки к идеям, вызывавшим к жизни просветительские издания для народа, и даже отчасти к тем беседам, с которыми ходили в народ семидесятники.
Этой внутренней близостью столь различных явлений отчасти можно объяснить то, как мог, например, В. В. Стасов, столь трезво осознавший все противоречия современной ему западноевропейской архитектуры эпохи капитализма и аналогичных ей явлений в отечественном зодчестве, последовательно отделять от них стилистические искания «русского стиля». Этот вопрос, как представляется, может быть решен, лишь исходя из всей совокупности общественно-исторических условий в России этого времени и той особой ситуации, которая сложилась в пореформенный период. При этом необходимо помнить, что фактически в эти годы была впервые осознана и поставлена задача освоения в русском искусстве народного национального наследия — явление, необычайно характерное для всей эпохи в целом и являющееся одним из проявлений историзма в художественном сознании.
Самая атмосфера художественных поисков эпохи была необычайно благоприятной как для развития определенных течений «русского стиля» в архитектуре, так и для восприятия их в контексте всей русской художественной культуры, во многом связанной с трансформацией народных начал. Такие искусства, как музыка, живопись, литература с их разносторонними поисками народности, словно вовлекли в сферу своих достижений и современное им зодчество, которое не могло не испытывать воздействия передовых идей и устремлений своей эпохи.
Кажется не случайным, что зарождение и развитие на рубеже 1870-х годов наиболее демократического по своей сущности направления «русского стиля» в архитектуре, связанного с именами В. А. Гартмана и И. П. Ропета, почти точно совпало с расцветом определенного направления в русской музыке, воплощенного в произведениях композиторов «Могучей кучки». Кроме чисто личных, человеческих связей между представителями обеих групп, это знаменовало еще и близость творческих воззрений, хотя и по-разному преломляющихся в каждом виде искусства. Поиски «народности», под знаком которых развивалось русское искусство, означали не просто интерес к национальной истории, не только усвоение национальных традиций, но и обращение к народной жизни, стремление постичь народное художественное творчество, выступавшее как основной носитель этих традиций. В нем искали и находили источник вдохновения для современного профессионального искусства мастера самых разных видов художественного творчества той эпохи, хотя их произведения и нельзя сравнивать с точки зрения художественных результатов.
«Распространяться о значении народных песен незачем,— писал в конце XIX в. Ц. А. Кюи.— Замечу только, что среди народных песен всех национальностей наши занимают особенно высокое место по своей красоте, разнообразию, оригинальности, богатству содержания и по тому громадному влиянию, которое они имели на всех почти без исключения наших лучших композиторов: Глинку (особенно в «Иване Сусанине»), Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова. Они служили для них богатым источником вдохновения, из них они черпали тот народный колорит, который составляет одну из особенностей их оперных произведений» 5.
При этом, несмотря на специфику художественного языка в каждом из искусств, предопределившую их различные эстетические достоинства, в них не могли не проявляться те общие черты, присущие эпохе в целом, которые во многом обусловили и отдельные качества «русского стиля» в архитектуре. Если попытаться обобщить эти особенности, то можно сказать, что основной из них была своего рода «программность» определенных течений русского искусства, стремление в наиболее конкретной образной форме выразить демократические идеи своего времени.
«Программность» искусства, исходящая из своеобразной конкретизации художественных образов и связанных с ними исторических или литературных ассоциаций, во многом отражала то тяготение к литературности художественного языка, которое сказалось в самых разных областях художественного творчества. Отчасти это было проявлением и того стремления к обогащению средств художественной выразительности и расширению сферы воздействия отдельных искусств, которое исходило из романтических концепций и было, в частности, в большой мере присуще музыкальной культуре этого периода. «Чем шире пределы искусства, тем лучше, это тоже один из симпатичных принципов новой русской школы. Музыка более всего способна к выражению и передаче душевных настроений; но кроме того, она способна вызвать в воображении слушателя некоторые образы, подсказанные программой. Отсюда законность программной музыки» 6,— утверждал один из композиторов «Могучей кучки».
Характерно, что программность музыки, свойственная всей европейской музыкальной культуре этой эпохи, нашла наиболее полное выражение в тех течениях русской музыки, которые были тесно связаны с поисками народных начал.
«Открытие в 1862 году в Новгороде памятника тысячелетия России,— писал, например, М. А. Балакирев,— было поводом к сочинению симфонической поэмы «Русь», которая была первоначально издана под названием «1000 лет». В основание сочинения взяты мною три темы народных песен из моего сборника, которыми я желал охарактеризовать три элемента нашей истории: язычество, московский уклад и удельно-вечевой элемент, переродившийся в казачество. Борьба их, выраженная в симфоническом развитии этих тем, и сделалась содержанием инструментальной драмы» 7. Подобная предельная конкретность музыкальных образов, невозможная в предыдущую эпоху, была свойственна не только музыке и лучше всего свидетельствовала о сознательном стремлении к «расширению пределов» каждого искусства. Самый памятник тысячелетия России, сооруженный по эскизам художника (а не скульптора!) М. О. Микешина, в виде грандиозной «державы», окруженной героями русской истории, был не менее ярким образцом той же тенденции.
Самая возможность черпать вдохновение в произведениях других видов искусства, близких по своей идейной, содержательной сущности была необычайно показательной для этого времени. При этом характерно, что создаваемые на этой основе произведения не всегда оказывались равнозначными по своим художественным достоинствам. Наиболее ярким примером подобной неадекватности являются гениальные, во многом опережающие свое время «Картинки с выставки» Мусоргского, созданные, как известно, на темы рисунков архитектора В. А. Гартмана, виденных композитором на его посмертной выставке в 1874 г. 8 Между тем эти рисунки, вдохновившие Мусоргского на его музыкальные шедевры, по своим художественным достоинствам были далеко не так совершенны. Известный ореол, романтический отблеск, во многом предопределивший их восприятие, был одной из характернейших особенностей всей художественной эпохи, придавая многим произведениям искусства тот подтекст, тот глубокий и многозначный смысл, который был близок и понятен современникам. Во многом этим объяснялись и оправдывались и заимствованность художественных средств, и повествовательность, литературность художественных образов, поскольку их объединяла общность определенных идей. «Русскому стилю» 1870-х годов также было присуще бывшее знамением времени стремление выйти за пределы узких рамок специфически архитектурного языка, найти приемы, наиболее полно воплощающие ту художественную программу, тот архитектурный образ, который становился носителем определенных демократических идей, и прежде всего идеи народности в искусстве. Вместе с тем надо сказать, что эта заданная программность получила в архитектуре наиболее приблизительный, огрубленный оттенок во многом из-за специфики ее образного языка.
Если народность изобразительного искусства никогда не понималась в XIX в. как прямое заимствование форм народного творчества, если народность русской литературы никогда не сводилась к народному языку и народному сюжету, то практически именно так обстояло дело с русской архитектурой. Очень долгое время именно внешняя форма, народный мотив, декоративная деталь трактовались как воплощение народных начал, как символ национального зодчества. «Возможно ли народное зодчество и как отыскать его начала, как создать его правила? Оно возможно только посредством изучения и разложения оставшихся памятников» 9,— писал В. А. Соллогуб в 1845 г. Перед зодчими им ставилась «великая и прекрасная задача посредством мелких украшений, отдельных частей, уцелевших подробностей, посредством всех указаний, разбросанных по России, воссоздать исчезающее искусство... Зачем уничтожать те странные фантастические формы, те чешуйчатые крыши, те фаянсовые наличники и подоконники, те изразцовые карнизы, заменяющие на севере камень и мрамор, которые так живописны для взора и придают каждому зданию такой нежданный и своебытный вид. Пусть зодчество водворит на Руси народное искусство, а за ним последует и живопись, и ваяние, и музыка» 10.
«А. М. Горностаев первый из архитекторов обратил у нас внимание на оригинальные узоры русских полотенец и на резную раскрашенную орнаментацию русских изб и всяческих предметов обихода русского крестьянина. Раньше всех он внес эти элементы в новую русскую архитектуру. Последствия этого открытия были громадны. Теперь уже без этих вновь появившихся, но по существу самых старинных и коренных элементов никакой наш художник не обходится» 11,— утверждал в начале 1880-х годов В. Стасов.
Между этими двумя высказываниями двух, совершенно различных по своим общественным взглядам авторов прошло почти четыре десятилетия. Но самый подход к архитектуре имеет у них много общего, несмотря на то что первый из них еще не мог видеть в русской практике ничего, кроме ранних церквей К. Тона и придворных избушек в пригородах Петербурга, и не был связан с архитектурой даже как дилетант. Другой же, маститый критик, знаток русского искусства, человек, с детских лет близкий к архитектуре, фактически придерживается тех же взглядов, уже подводя итоги многолетней архитектурной практики мастеров «русского стиля». Оба эти высказывания роднит самый подход к архитектурному образу как к такому сочетанию декоративных форм, самое происхождение которых служит главным мерилом художественности. При этом характерно, что почти все современники видели преимущества «русского стиля» прежде всего именно в его декоративной, «смысловой», повествовательной, даже символической стороне.
«Наш современный русский стиль заимствует мотивы не из основных форм расположения древнего здания, не из тех немногих конструктивных его элементов, которые были обработаны самобытною жизнью народа среди известной обстановки, как это делается на Западе с романским и готическим стилями, но ограничивается воспроизведением и разработкой орнаментов русского происхождения... В погоне за оригинальностью наше современное искусство жадно хватается за всякий мотив для орнаментации, который отыскивается в старине или в народе, и создает из этого исподволь новый русский стиль» 12,— писал в середине 1870-х годов архитектор Л. В. Даль.
Отчасти эту особенность «русского стиля» можно объяснить тем, что присущая эклектике в целом некая внешняя «изобразительность», позволяющая вызывать те или иные образные ассоциации путем введения определенных декоративных форм, получила в русской архитектуре, и в частности в «русском стиле», особое преломление, связанное с воплощением тех общественных идей, которые волновали умы. Архитектура «русского стиля» 1870-х годов рассматривалась как своего рода вещественное воплощение неуловимых начал народности, как отражение демократических взглядов, выраженных в визуальной «общедоступной форме». Народнические устремления части русской интеллигенции в этом смысле совершенно органично были связаны с теми поисками «русского стиля», которыми была окрашена практика русской архитектуры в течение 1870-х годов. Опосредованное восприятие национальных течений в архитектуре, получившее наиболее полное выражение в известных высказываниях Стасова, было, как уже отмечалось, во многом связано с сохранением и трансформацией романтических идей, которые продолжали определять многие стороны художественной и общественной жизни России того времени.
Последнее выражалось несравненно шире, нежели просто в определенных стилевых признаках романтической художественной школы, а скорее в сохранении некоего романтического мироощущения, пронизывавшего определенные течения русского искусства и во многом предопределявшего убежденность в действенной силе искусства, в его высокой преобразующей миссии.
Восторженные высказывания Стасова приобретают в этом случае исторически объективный смысл, и его уверенность в огромных успехах современной ему архитектуры получает прочное обоснование во всей системе художественных взглядов эпохи. «В течение последней четверти столетия русская архитектура сделала такие огромные шаги вперед, что просто глазам своим не веришь, когда станешь сравнивать ее создания с тем, что делал предыдущий период»13,— писал Стасов в начале 1880-х годов, во многом относя эти успехи за счет «русского стиля»: «Люди; в течение двух почти столетий не сделавшие ничего замечательного по части чужих форм и идеалов, вышли сильными, оригинальными и замечательными, только дотронувшись до тех элементов и материалов, которые были им близки и родственны» 14.
Такой примат идейной содержательной стороны, свойственный восприятию архитектуры, был связан с более общими явлениями в художественной жизни того времени. За конкретными формальными признаками искали то высокое содержание, тот гуманистический смысл, ту конкретную «программу», которые в большой мере предопределяли и оправдывали выбор тех или иных декоративных мотивов в «русском стиле», направленных к созданию определенных образных представлений.
Если, с одной стороны, нарастающие демократические тенденции в русской архитектуре были связаны с формированием и все более широким распространением массовых типов сооружений, то, с другой стороны, они выражались в самой наглядной форме в таких уникальных зданиях, которые носили явный отпечаток декларативности. Речь идет о создании русских выставочных павильонов, где в наиболее сильной степени были выражены те черты, которые стали характерными для деревянной архитектуры второй половины XIX в.
Просветительские тенденции, которые были столь свойственны художественному мышлению этого времени в целом, нашли благодатную почву в архитектуре первых выставочных павильонов, предназначенных для самых широких масс, которые, по выражению Стасова, должны были ощущать, «что тут их торжество... что тут их и дворец, и университет, и бальная зала, и триумфальная арка». 15
Кажется не случайным, что наряду с проектированием особняков и загородных дач, земских школ и больниц ведущие мастера наиболее демократической ветви «русского стиля» — Гартман и Ропет так много внимания уделяли разработке выставочных зданий, этой, казалось бы на первый взгляд, второстепенной, боковой ветви в системе архитектуры XIX в. Однако эти сооружения, временные по самой своей сущности, связанные с эпизодическими, преходящими событиями и не рассчитанные на «жизнь в веках», эти сооружения по парадоксальности, свойственной многим художественным явлениям второй половины столетия, оказались наиболее яркими, этапными произведениями архитектуры, наиболее мобильно откликающимися на все запросы времени и наиболее глубоко отражающими стилевые достижения архитектуры и новшества строительства. Это в полной мере касалось не только знаменитых, эпохальных выставочных сооружений Западной Европы, таких, как Хрустальный дворец (1851), Эйфелева башня (1889) или Галерея машин (1889), но и тех, сравнительно скромных по масштабам, русских выставочных павильонов, которые были созданы сначала на первых политехнических выставках в России, а затем и на всемирных выставках за границей. Но при этом уже в первых сооружениях этого типа в России обнаружилось значительное отличие в самом отношении к задачам выставочного строительства по сравнению с европейскими зодчими, которое сохранялось на всем протяжении XIX столетия, обусловив формирование совершенно особого типа выставочных зданий. Вместо огромных, технически совершенных выставочных сооружений Западной Европы, создаваемых на основе новаторских металлических конструкций и потому неизбежно сохраняющих значение, далеко превышающее как время функционирования определенной выставки, так и ценность многих капитальных сооружений, в России создавались заведомо временные выставочные постройки, более соответствовавшие локальным задачам и воплощавшие прежде всего не столько технические достижения, сколько те демократические общественные воззрения и художественные идеалы, которые были наиболее характерны для этой эпохи.
Может быть, самая временность, «преходящесть» этой архитектуры предоставляла зодчему больше творческих возможностей, позволяла сделать это сооружение своеобразной творческой декларацией, заявкой на будущее. Самое значение выставочного павильона, рассчитанного на посещение десятками тысяч людей из самых различных социальных слоев, и его изначальная «неутилитарность» предоставляли свободу для поисков особого художественного образа, в условиях России того времени приобретавших подчеркнуто демократическую направленность.
Сложнейшее совмещение самых различных функций сочеталось с архитектурным образом, который мы сейчас назвали бы плакатным — павильон должен был привлекать своей новизной, нарядностью, необычностью. Вместе с тем здесь не могли не получить отражения национальные традиции, хотя бы и понимаемые так, как их понимали во второй половине XIX в., тем более что идея ярмарочных «балаганов» не могла не повлиять на устройство первых выставочных павильонов. К этому надо добавить, что самый внешний вид павильона должен был о многом «говорить» посетителям из народа, среди которых большинство оставалось неграмотным. «Уж если есть на свете страна и народ, кому эти выставки более чем кому-нибудь нужны и полезны,— то это именно Россия и русский народ» 16,— писал Стасов о всемирных выставках, и эти слова вполне относились и к выставкам всероссийским.
Приобщение России к практике всемирных выставок было достаточно поздним, хотя в самой России уже с 1830-х годов стали развертываться то в Петербурге, то в Москве первые выставки отечественных промышленных товаров, свидетельствовавшие о новом этапе в развитии русской экономики 17. Эти выставки, размещавшиеся то в обширных залах пакгаузов Биржи, то в огромных пространствах московского Манежа, еще не имели особых выставочных зданий. Первым выставочным сооружением стал павильон на Мануфактурной выставке 1870 г. в Петербурге 18. Его созданию предшествовало зарождение в европейской и русской архитектуре таких тенденций, которые делали вполне закономерным оформление первого русского выставочного павильона именно в «русском стиле».
Известно, что Гартман, совершая в конце 1860-х годов свое пенсионерское путешествие по Европе, специально приурочил возвращение в Париж к Всемирной выставке 1867 г. и находился там до ее окончания 19. Более того, он предлагал оформить Русский отдел выставки силами архитекторов-пенсионеров Академии художеств, находящихся за границей, и, несомненно, имел при этом определенные замыслы этого оформления 20. На него не могли не повлиять впечатления от выставочной архитектуры Парижской выставки, причем несомненно, что эти впечатления не всегда были положительными. В частности, у Гартмана, как и у Стасова, не могли не вызвать протеста те неудачные попытки придания Русскому отделу «национального колорита», которые предпринимались без какого-либо участия видных русских зодчих на Всемирной выставке в Париже.
«Один который-то из распорядителей взял да и заказал приличные рисунки с немного прилганною, впрочем, национальностию, да потом эту изготовленную уже наперед архитектуру натянул, как мундир, на всю русскую выставку сплошь» 21. Нельзя сказать, чтобы этот отзыв не свидетельствовал о достаточно проницательном взгляде В. В. Стасова на первые образцы «русского стиля», образцы, от которых не мог так или иначе не отталкиваться В. А. Гартман в своих, тогда еще не осуществленных замыслах.
«У нас было выстроено внутри общего дворца что-то вроде большой галереи в национальном русском архитектурном стиле,— писал В. Стасов о Русском отделе 1867 г. в Париже. Над рядом толстопузых кубышек, покрытых резьбой и красками, возвышались острые треугольники наших изб, опять от одного конца до другого покрытые вырезными орнаментами и раскрашенными узорами; внутри таких участков, огороженных этой разноцветною русской стеной, виднелись шкапы, витрины и столы, опять-таки в народном русском стиле, с конскими головами, выступами, перехватами и колонками. Иностранцы любовались и довольны были этими национальными обращиками» 22. Этот полуиронический отзыв достаточно далек от тех восторженных оценок «русского стиля», которые мы привыкли связывать с именем Стасова. 23
Более того, можно утверждать, что Стасов глубже многих ощутил противоречия современной ему архитектуры, осознавая их природу, хотя нередко сознательно подчинял избранной им тенденции непосредственность первоначальных оценок, соответственно тем задачам, которые он ставил перед русским искусством в целом. Противоречивость оценок в полной мере коснулась и отношения его к «русскому стилю». С одной стороны, он не мог не ощущать оттенка сусальности, фальши, экзотической «азиатчины» первых русских выставочных павильонов за границей, выполненных в «русском стиле». С другой — по аналогии с другими искусствами и по своим убеждениям Стасов не мог не приветствовать в них разработку национальных мотивов, что при общей для всей архитектуры той эпохи декоративной «изобразительности» создавало определенный художественный образ, аллегорически воплощавший идеи, связанные с возрождением народного зодчества. Разрыв между свежестью впечатления и последующей его сознательной адаптацией, направленной к утверждению определенных положительных идей, необычайно ярко проявлялся и в первых стасовских оценках образцов «русского стиля», и в частности в оценке первых павильонов всемирных выставок. Это касалось не только образцов «русского стиля», но и тех небольших заграничных выставочных зданий, созданных европейскими мастерами, на примере которых Стасовым было впервые отмечено зарождение неких общих тенденций в западноевропейской архитектуре, связанных с использованием традиций народного творчества.
Наряду с огромными пространствами главных павильонов, с их оригинальными композициями и смелыми металлическими конструкциями, с широким введением стекла 24, наряду с изобильной декоративной лепкой отдельных выставочных зданий на европейских всемирных выставках начинают появляться с начала 1870-х годов небольшие частные павильоны, архитектура которых демонстрировала явное развитие идей романтизма. Впоследствии, уже в начале XX в., эти идеи трансформировались в определенных течениях стиля «модерн», известных под названием «национального романтизма».
«Мне хотелось бы обратить внимание читателя,— писал Стасов о венской Всемирной выставке 1873 г.,— на множество построек деревянных, которые хотя и в новое время возникли, но имеют в себе черты чего-то особенного, самобытного, почти равняющегося силе национальности... Всюду эта новая деревянная архитектура ярко блещет своими формами, перекрещивающимися бревнами, резными наверху решетками и балкончиками; красивыми рядами зубцов и прорезных узоров, живописными крышами, то острыми и высокими, то низкими и плоскими, наконец, бесконечным разнообразием окон и дверей, окруженных колонками, пилястрами, узорчатыми наличниками и навесами,— и все это покрытое богатыми, прекрасно сложившимися красками» 25.
«Венгерский дом», «шведский домик», «словацкий, штирийский, кроатский, тирольский крестьянские домики» представляли собой рестораны, павильоны отдельных фирм, открывая тот бесчисленный ряд «национальных» выставочных зданий, в которых все большее место стали занимать русские павильоны. Судя по описаниям Стасова, которые могут быть приложимы к любому из них, принципиально они почти не отличались, и та, заранее заданная сельская экзотичность, которая определяла преувеличенность каждого приема, была им прекрасно почувствована. «Не иначе, как сюда, могу я, между прочим, отнести и «русскую избу г. Громова»,— писал он далее о выставке 1873 г. в Вене.— Как национальная постройка, как обращик русского народного жилища, эта изба, конечно, забавна и карикатурна. Отроду русский народ не жил в таких элегантных, дорогих, лакированных, франтовски напомаженных домах, и никакая критика не могла бы беспощаднее утопить эту «лже-избу», как русские плотники, строившие ее собственными руками, но по плану архитектора-рисовальщика» 26.
И все же, хотя социальная фальшь подобных зданий была очевидна, Стасов считал необходимым поддержать это начинание во имя тех идей народности в современном зодчестве, воплощение которых он видел в «русском стиле», уже обогащенном к этому времени первыми произведениями Гартмана на выставках в Петербурге и в Москве. «Но если видеть в этой постройке,— писал Стасов далее о «русской избе» в Вене,— лишь новейшую вариацию на старинные, в самом деле национальные темы — то отчего же бы и не похвалить ее... Такие попытки нового творчества на старые темы хороши... в этом нам отставать от других нечего, и чем более мы будем хлопотать о том, чтобы двигаться в архитектуре, опираясь на давнишние коренные наши мотивы,— тем лучше». 27 И далее, разом, чтобы уже окончательно покончить с собственными сомнениями: «Все пропорции этой постройки, ея ворота, двери, окна, размеры комнат, форма печей, все мотивы резьбы внутри и снаружи, по большей части взятые (по нынешней, очень хорошей моде) с вышивок и полотенец,— прекрасны и элегантны» 28. Так «элегантность» избы неожиданно предстает уже не как недостаток, а как положительное качество, и все критерии по отношению к «русскому стилю» приобретают совершенно особую специфику, ибо «в этом нам отставать от других нечего». Противоречивость подобных оценок ярко отражала противоречия самой архитектуры того времени. Начав с одного подхода к архитектуре— социального, демократического, Стасов завершает свой отзыв с совершенно другой точки зрения — касаясь лишь образной, «идейной», изобразительной стороны архитектуры. При таком подходе уже совершенно закономерным и оправданным представлялось появление первых русских выставочных павильонов в «русском стиле», бывших как бы воплощением образов народного зодчества. По-видимому, Гартманом, фактически открывшим новую страницу в истории русской архитектуры, в соответствии именно с этими запросами своего времени был сознательно избран путь, связанный не с «техницистскими» направлениями в выставочном зодчестве, а с теми явлениями, которые свидетельствовали о попытках освоения национального наследия и были присущи, как мы видели, не только русской, но и европейской архитектуре этих лет. Однако в условиях русской действительности, в исторической ситуации 1870-х годов это обращение к народным истокам носило несколько иной, чем в Европе, более декларативный,более жизненно насущный характер, отражая специфическим языком архитектуры демократические взгляды и определенные общественные воззрения наиболее прогрессивной части русской интеллигенции.
Другим качеством, обнаружившимся при создании многих выставочных павильонов, в особенности на Политехнической выставке 1872 г. в Москве, были поиски новых конструктивных решений и таких строительных приемов, которые могли бы получить более широкое распространение. В этом отношении оказывалось вполне оправданным обращение к дереву, как к традиционному русскому строительному материалу, продолжавшему оставаться в XIX в. наиболее дешевым и общедоступным.
«Демократизм», которого искали архитекторы, был таким образом заложен уже в самом материале сооружения. Не случайно первый вариант выставочного павильона в Петербурге, созданный В. А. Гартманом в 1869 г., т. е. вскоре после возвращения его из пенсионерской поездки за границу, был рассчитан на исполнение в дереве 29. Его применение имело и еще одно преимущество, особенно важное в условиях возрастающего разрыва между реальной основой здания и декоративными украшениями, наносимыми вне всякой связи с подлинным строительным материалом. Дерево впервые за долгое время возвращало архитектуре то единство декоративной и конструктивной формы, которое выражалось не только в единстве материала, но и в изначальной функциональности деревянных декоративных деталей, еще не до конца утративших эти качества. В этом отношении сооружения «русского стиля» были близки к образцам «кирпичного стиля».
Подлинность, «правдивость» строительного материала, его «открытость» как одно из средств художественной выразительности — все это было определенным завоеванием на фоне «капитальных» оштукатуренных зданий эклектики, завоеванием, оказавшим несомненное влияние на дальнейший ход развития архитектуры. Ведь и в классике деревянный сруб обычно маскировался толстым слоем штукатурки, придающим зданию вид каменного. Теперь дерево оставалось открытым, определяя выразительность здания, его фактуру и пластичность. Разновеликие деревянные объемы составляли единую живописную композицию, подобную композиции созданной Гартманом дачи Ф. И. Мамонтова в селе Кирееве под Москвой (1871). Совершенное новое впечатление пластичности архитектурных масс должно было производить это здание из выступающих, уходящих в глубину, возвышающихся один над другим срубов, здание, где ни один фасад не повторял другой и где фактура дерева со светотенью круглящихся бревен и нависающих кровель была более выразительна, чем декоративные детали. Эта композиция, в чем-то исходившая из хоромного зодчества Руси, была близка по своей структуре и к современным завоеваниям архитектуры, и прежде всего к созданным в середине века загородным виллам Боссе, где принцип свободной асимметричной планировки лежал в основе архитектурной выразительности всего здания.
Та же пластика объемов читается в сохранившихся изображениях выставочного павильона, построенного Гартманом в 1872 г. на Политехнической выставке в Москве. Созданный Гартманом павильон Военного отдела совмещал легкие деревянные конструкции основной части, образующей полукруг в плане, с бревенчатыми срубами главного входа, увенчанного приземистой шатровой башней, разделенной на ярусы. Введение этого шатрового завершения, воспринимавшегося на фоне башен Кремля, близ которых располагался павильон, было, несомненно, продиктовано желанием вызвать определенные ассоциации с древним русским оборонным зодчеством, с его деревянными стенами и крепостными башнями. Эта образная ассоциативность, столь характерная для эклектики в целом, приобрела здесь какие-то новые черты, говорящие о поисках и зарождении особых приемов, еще не получивших эстетического воплощения. Это выражалось и в подчеркнутой массивности срубов, сложенных из толстых бревен, причем отдельные объемы кажутся словно грубо сколоченными, связанными между собой, и в форме маленьких окон, и в почти полном отсутствии обычной деревянной резьбы.
Этот оттенок грубости, преувеличения, почти варварства в отдельных вещах Гартмана явно свидетельствовал о желании вырваться за рамки привычных, спокойных схем эклектики к иной образной выразительности, к наглядной символике форм, к монументальным «героическим» архитектурным образам.
|
|
|
В. А. Гартман. Павильон Военного отдела на Всероссийской выставке 1872 г. в Москве. Гравюра 1870-х годов |
|
|
|
В. А. Гартман. Проект городских ворот в Киеве. Фасад, 1869 г. |
С этой точки зрения особенно показателен столь неорганичный, почти чудовищный в деталях ранний проект Гартмана, как «Городские ворота в Киеве». Уже здесь содержалось, хотя еще и в очень наивной форме, стремление к созданию сказочного, театрализованного, почти гротескного архитектурного образа. Неуравновешенность нарочито асимметричной композиции, преувеличенные размеры тяжелого шлема-купола, подчеркнутая массивность каменных стен — все говорило о зарождении каких-то новых формальных поисков, нового образного языка, основанного на экспрессии и подчеркнутой пластичности форм. Видимо, именно эти качества имел в виду Л. Даль, отмечая «до дикости оригинальные» работы В. Гартмана 30. Этот оттенок экспрессии в проекте Гартмана был очень тонко почувствован и Мусоргским. Образ героических «Богатырских ворот» в чем-то должен был соответствовать тем образным поискам, которые отличали «Картинки с выставки». Не просто прозаические ворота, не «городские ворота», а именно «Богатырские ворота» увидел Мусоргский в проекте Гартмана, и это было необычайно симптоматично. Видимо, не случайно он закончил «Картинки с выставки» именно этим героическим аккордом, а не бытовыми, пусть изящными и лирическими, «зарисовками» с натуры, сделанными совсем в иной манере.
Наряду с этими явными формальными поисками выразительности, которые можно было бы назвать первыми поисками экспрессивной формы, если бы они не носили еще столь наивного, даже беспомощного, характера, в творчестве Гартмана явственно обнаруживалась и другая линия, также имевшая решающее значение для последующего развития русского зодчества — тенденция к разработке смелых конструктивных решений. Фактически именно им были впервые введены в практику деревянные сборные конструкции, позволявшие перекрывать большие пространства театральных залов. Задача создания народного театра была одним из увлечений Гартмана, создавшего уже в 1870 г. проект народного театра для Петербурга, который не был осуществлен. Построенный им двумя годами позже, в 1872 г., деревянный Народный театр на Варваринской площади в Москве оказал несомненное воздействие на дальнейшее формирование театра этого типа. «Тут не было никаких почти внешних украшений,— писал В. Стасов,— и все дело состояло в одном конструктивном скелете: так своеобразен был этот театр, разбирающийся по брёвнушку и необычайно стройный». 31
Кроме разработки таких уникальных крупных сооружений, самое построение которых было рассчитано, однако, на повторяемость, на массовое применение, чему способствовала в первую очередь предельная простота сборных деревянных каркасных конструкций, делающая их доступными для широкого распространения, Гартман вел поиски новых приемов проектирования кирпичных зданий в «русском стиле». Его первые кирпичные сооружения в этом стиле, как и деревянные, были далеки от каких-либо конкретных исторических прообразов, демонстрируя совершенно новое для эклектики отношение к пластике стены, составляющей единое целое с украшающим ее рельефным полихромным кирпичным орнаментом. Каковы бы ни были художественные достоинства таких работ Гартмана, как «проект входной части здания для народных лекций» (1870), оставшийся неосуществленным, или типография Мамонтова в Москве (1872), после утратившая полихромию и свой первоначальный вид, самый прием совмещения архитектурной декорации с кирпичным «телом» здания был принципиально новым для тех лет и открывал при этом широкие возможности для массового строительства, поскольку такая кирпичная орнаментация оказывалась несравненно более экономичной, чем штукатурка и декоративная гипсовая лепка на фасаде зданий. Не случайно именно этот принцип пропагандировался впоследствии сторонниками так называемого «кирпичного стиля», нашедшего применение прежде всего в массовых небольших сооружениях — жилых домах, школах, больницах, станционных зданиях и т. п., а также в крупных зданиях делового характера, и прежде всего — в комплексах учебных заведений и больниц. Именно эта общедоступность найденных Гартманом приемов подчеркивалась и Стасовым, когда среди других построек Гартмана он особенно отмечал типографию Мамонтова в Москве в Леонтьевском переулке «всю цветную, и снаружи и внутри, и, главное, без всякой раскраски и прилепов, а от начала и до конца из цветных кирпичей с поливой разной формы и объема, нарочно заказанных, но до того дешевых, что они могут быть доступны для каждой почти постройки» 32.
Это последовательное соблюдение единства строительного и декоративного материала было в большой мере заимствовано из древнерусского зодчества с его неподдельной органичностью, хотя, казалось бы, трудно говорить об органичности в достаточно уязвимых «поисковых» работах Гартмана.
В них хочется подчеркнуть еще одну особенность — почти полное отсутствие определенных конкретных прообразов. Если отвлечься от тех привычных скептических оценок, которые принято, хотя и с известными оговорками, давать творчеству Гартмана, то можно увидеть в нем первые попытки совместить черты национального народного искусства с требованиями современной архитектуры, с ее новыми композиционными, пространственными, техническими и конструктивными особенностями. Возросшие масштабы зданий, крупные залы общественных сооружений, увеличение этажности жилых домов, своеобразная «раскрытость», незавершенность композиции протяженных уличных фасадов зданий — все это требовало каких-то совершенно иных приемов, нежели те, которые могли быть в готовом виде заимствованы в древнерусском и народном зодчестве.
Может быть, отчасти этим и следует объяснить то, что в поисках более широких аналогий Гартман обратился в своем творчестве не только и не столько к народному зодчеству, но и к народному прикладному искусству в целом, вплоть до народных вышивок. При всей уязвимости и спорности такого прямого обращения и заимствования мотивов из тех самых «полотенец», которые так приветствовал Стасов, при всей неорганичности такого переведения вышитых орнаментов в совершенно другой материал и в качественно иной контекст, оно было в какой-то мере оправдано теми задачами, которые ставил перед собой мастер, а главное, теми формальными закономерностями, которыми отличалось народное прикладное искусство, и в частности — орнаменты собранной им богатейшей коллекции русских полотенец.
Прежде всего к ним можно отнести определенную повторяемость мотива, мерность ритма, практическую нескончаемость узора, который может быть продолжен в любую сторону. Эта повторяемость разнообразилась введением таких приемов, как зеркальное изображение отдельных фигур — птиц, зверей и пр.— с бесконечным числом осей симметрии, что во многом отвечало построению типичных для эклектики «незавершенных», «бесконечных» фасадов с их ритмической разбивкой одинаковых окон и невыраженностью композиционных акцентов, фасадов отражавших более глубокие закономерности архитектуры.
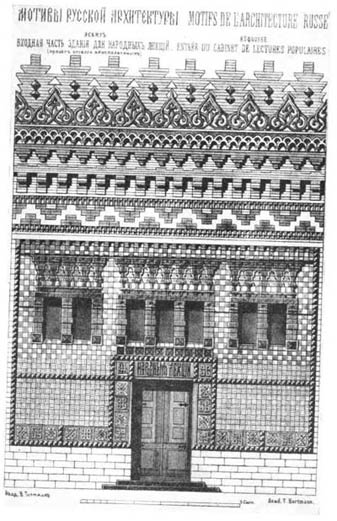 |
 |
| В. А. Гартман. Проект здания для народных лекций. Входная часть, 1870 г. | В. А. Гартман. Типография Мамонтова в Москве. 1872 г. |
Наконец, именно в вышивках был прекрасно разработан тот отвлеченный геометрический орнамент, самое построение и ритм которого определялись прямоугольной сеткой нитей холста и полотна. Последнее давало возможность использовать вариации подобных орнаментов в кирпичных зданиях, где «сетка» кирпичной стены диктовала аналогичные приемы построения кирпичных узоров. О том, что эта возможность была вполне осознана Гартманом, свидетельствует, например, то, что многие свои чертежи, и в том числе рисунки кирпичных орнаментов фасадов и изразцовых печей 33, он строил на расчерченных в клетку листах, диктовавших определенный модуль и определенный ритм кирпичных узоров.
Если рассматривать с этой точки зрения осуществленные им здания, например фасад типографии Мамонтова в Москве, то обнаруживается, что все эти особенности — и повторяемость геометрических элементов, и незавершенность композиции с обеих сторон, и множественность осей симметрии — определяют характер этого кирпичного фасада с его своеобразной фрагментарностью построения. Выложенные из кирпича клеточки узоров почти дословно повторяют узоры вышивок, причем это сходство в первоначальном виде еще усугублялось полихромией кирпича, которая широко вводилась Гартманом. В этих цветных барельефных узорах было несравненно меньше общего со скромными кирпичными поребриками новгородских церквей или с полихромными изразцами ярославских храмов, чем с красочными рисунками вышитых полотенец.
Эти первые попытки привлечения в современную архитектуру каких-то неархитектурных, новых, свежих декоративных элементов, в том числе геометрических орнаментов, выражало стремление все дальше уйти от ордерных схем в архитектуре, стремление, подспудно определившее те дальнейшие поиски, которые впоследствии привели к стилистическим завоеваниям рубежа XX в.
Такое расширение круга первоисточников при всей его прямолинейности свидетельствовало о несомненном стремлении выйти за рамки привычных представлений об архитектуре, хотя бы ценой еще большей ее неорганичности. Ведь если в вещах Гартмана был преодолен разрыв между строительным и декоративным материалом, между пластикой стены и пластикой орнамента, то в них еще в большей степени обнаруживалась заимствованность самого декоративного мотива,— что было неизбежной данью эстетическим представлениям эклектики. Будучи блестящим рисовальщиком-графиком, Гартман не пренебрегал в своих проектах и этой сильнейшей стороной своего дарования, свободно оперируя разнообразными декоративными мотивами и вариациями. Но, за редкими исключениями, они никогда не нарушали конструктивной логики построения и не отличались той крайней перенасыщенностью, которая стала нарицательной в характеристиках так называемого «петушиного стиля», иронического наименования творчества рядовых последователей Гартмана, нередко утрачивавших и то чувство меры, и, главное, ту целенаправленность, которые определяли творчество его самого. Другое полуироническое наименование этого направления «русского стиля» — «ропетовщина», происходящее от псевдонима архитектора И. Н. Петрова (Ропет), также отражало скорее издержки творчества этого направления, чем недостатки самого Ропета.
Впечатление нагроможденности объемов, перенасыщения декоративными элементами отличало целый ряд проектов и построек в «русском вкусе»— загородных дач, павильонов, жилых домов, созданных последователями Гартмана и Ропета: И. Богомоловым, М. Кузьминым, И. Монигетти, В. Харламовым, М. Преображенским, Ю. Бруни и другими, работы которых, публиковавшиеся в 1873—1880 гг. в периодических выпусках «Мотивов русской архитектуры», на первый взгляд очень трудно дифференцировать. Их объединяют те приемы «свободного» асимметричного, обычно достаточно целесообразного решения плана, которые иногда' с трудом читаются в нагромождении отдельных объемов-срубов, образующих то неустойчивое равновесие, которое стало основным признаком «русского стиля» 1870-х годов. Впечатление, производимое ими, еще усугублялось насыщенной деревянной резьбой и пестрой раскраской деталей. Эти тенденции привели, с одной стороны, ко все более сложным, надуманным построениям, отличающим рядовые постройки, но с другой — к формированию особых приемов, основанных на живописной компоновке объемов, почти без привлечения декоративной резьбы. Последнее было присуще, например, некоторым работам архитектора Ю. Бруни, и в частности его даче Е. К. Умновой близ Петербурга, которую даже трудно причислить к «русскому стилю», настолько спокойны, нейтральны ее формы и скромен декоративный убор.
|
|
|
И. П. Ропет. Русский павильон на Всемирной выставке 1878 г. в Париже. Гравюра конца 1870-х годов |
|
|
Творчество В. А. Гартмана и И. П. Ропета обычно принято рассматривать совместно, не делая качественной разницы между ними. Лишь в последнее время появились отдельные монографические исследования 34 позволяющие лучше ощутить как различия в их творческой манере, так и то новое, что было привнесено в русскую архитектуру каждым из них.
Вступив на поприще архитектуры чуть позже своего предшественника, когда основные начинания Гартмана уже осуществлялись, Ропет продолжал его поиски в несколько ином направлении. Можно сказать, что они касались скорее внешнего облика зданий, нежели каких-либо более общих закономерностей. Ропета несравненно меньше интересовали смелые пространственные построения и совершенствование деревянных конструкций, а также те поиски органического решения кирпичных сооружений, которые велись Гартманом. Но он в полной мере унаследовал то стремление к созданию свободного, асимметричного плана, которое словно «расшатывало» установившиеся в начале XIX в. традиционные приемы строго симметричного построения, постепенно формируя принципиально новые приемы объемно-пространственного решения небольших деревянных зданий.
Обращение к живописной асимметричной композиции архитектурных масс, с беспокойным силуэтом, с декоративным «нагромождением» объемов, с сильными декоративными акцентами на фасадах, с завершениями различной формы и высоты, которые должны были, по мысли зодчего, вызывать прямые ассоциации с хоромным деревянным зодчеством древней Руси, это обращение способствовало все большему раскрепощению от классических схем, которые с большим трудом преодолевались архитекторами периода эклектики при всем их отрицательном отношении к классицизму.
Стремление любыми средствами нарушить уравновешенность и симметрию отличало большинство проектов и построек Ропета. В этом отношении была очень интересна такая его постройка, как Русский павильон на Всемирной выставке 1878 г. в Париже. Здесь неорганичность, компромиссность общего решения еще выдает те трудности, с которыми осваивалась новая система мышления. Видимая центричность построения, так и не преодоленная в композиции павильона, зрительно нарушается подчеркнутым несходством боковых, симметрично расположенных ризалитов, различных по высоте, но в свою очередь строго симметричных по композиции. Такая «двойная симметрия», центричность, фронтальность композиции при всех различиях в декоративном решении отдельных объемов и даже при том, что один ризалит скомпонован с наружной лестницей — всходом, все же не производит впечатление «хоромного». Зато в двух менее крупных постройках на той же выставке 1878 г.— «Буфете русского отдела» и «Русской избе», Ропет находит другие приемы, впоследствии развитые им и его последователями. Здание «Буфета», достаточно компактное в плане, состояло как бы из отдельных срубов, живописно скомпонованных так, что все четыре фасада были совершенно различными, причем каждый имел свой композиционный, сильно выявленный акцент. Разновысокие объемы «Буфета», увенчанные высокими кровлями, производили впечатление смещенных, нарочито сдвинутых, даже неуравновешенных, громоздящихся друг над другом. Правда, здесь трудно говорить еще о пластичности объемов, поскольку динамичность достигается преимущественно за счет сильных декоративных акцентов — «навесных» декоративных деталей, фигурных кровель, угловых крылец, а не путем органической компоновки архитектурных масс.
Работами, ставшими определенной вехой в развитии «русского стиля» и таившими в себе в скрытой, неразвитой форме те возможности, которые впоследствии сложнейшим путем привели к рождению новых приемов художественной стилизации, были «Мастерская» В. Гартмана и «Баня-теремок» И. Ропета в Абрамцеве.
Как ни странно, но «Мастерская», построенная по проекту такого талантливого рисовальщика и «композитора», как Гартман, оказалась более традиционной, более прозаической. Деревянный сруб ее оформлен по типу обычной крестьянской избы, лишь с несколько большими окнами, поскольку перед архитектором стояла определенная задача — создать обширное, хорошо освещенное пространство художественной мастерской. Здесь нет ни малейшего преувеличения приемов, но нет и перенасыщенности резными деталями, которые сохраняют конструктивный смысл и чистоту рисунка.
|
|
|
В. А. Гартман. Мастерская в Абрамцеве (1873—1877 гг.) |
По сравнению с «Мастерской», «Баня», осуществленная всего годом позже 35, уже несет в себе несколько иные черты. Их зарождение можно прочесть по тем проектам Ропета, которые демонстрируют постепенную трансформацию форм и превращение прозаической «Бани при даче С. Мамонтова близ Москвы» в сказочный «Теремок». В одном варианте поставленное на горке здание окружено лестницами, ведущими на высокое крыльцо, увенчанное несоразмерно большой кровлей. В окончательном варианте ведущую роль начинает играть компактный основной объем здания, перекрытый высокой четырехскатной крышей. Приземистый сруб «Теремка» из толстых «вековых» бревен подчеркнуто тяжел и массивен, он как будто прижат к земле, «придавлен» несоразмерно высокой кровлей, превышающей его высоту почти вдвое и нависающей над ним, образуя глубокую тень. Маленькие, горизонтальные окна прорезают толщу стены высоко, почти под свесом кровли, в тени которой они кажутся еще глубже, еще «подслеповатее». Точно так же почти теряется в тени высокого, глубокого крыльца маленькая низкая дверь.
Прозаизм эклектики был здесь словно побежден, «перекрыт» тем романтическим мироощущением, которое уходило в мир русской сказки в мир национальных, народных образов. Не случайно именно в Абрамцеве с его художественными поисками, уделявшими особенное внимание народному творчеству, могли появиться эти деревянные парковые постройки, знаменовавшие наступление нового этапа в «русском стиле», хотя и принадлежавшие еще на первый взгляд к тому общему направлению, образцы которого были собраны на страницах «Мотивов русской архитектуры», издававшихся в те же годы.
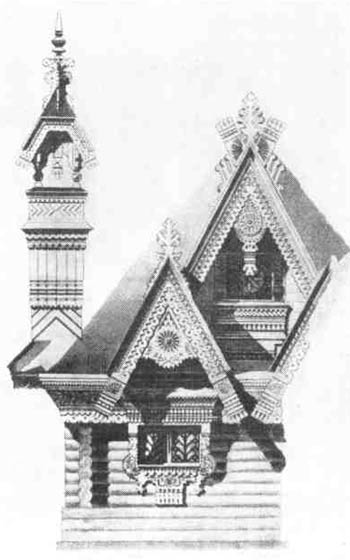 |
 |
| И. П. Ропет. Проект бани в Абрамцеве. Фасад, 1876 г. | И. П. Ропет. Баня «Теремок» в Абрамцеве (1876—1878 гг.) |
Едва наметившееся в этих уникальных постройках новое отношение к архитектурному образу, к его формальной выразительности долгое время еще не находило дальнейшего развития, потонув в общем нескончаемом потоке массовой продукции «русского стиля». При этом две линии развития этого направления все более и более обособлялись, в нем все явственнее отражалось присущее эклектике в целом деление на массовое и уникальное, утилитарное и «художественное». Расчет на массовое распространение «русских» форм в каменном и деревянном зодчестве, определивший многие особенности работ В. Гартмана, сказался в формировании целесообразных по построению, крайне экономичных небольших массовых утилитарных зданий — народных училищ, сельских школ, земских больниц, станционных построек или крупных временных сооружений, основанных на применении деревянных конструкций — театральных залов, выставочных павильонов, где внешние приметы «русского стиля» сводились к необходимому минимуму и где задачи чисто художественные, в присущем эклектике понимании, отходили на второй план. Именно в этих постройках постепенно формировались как наиболее рациональные приемы объемно-пространственного построения, так и обычный для массовых построек предельно скромный характер оформления фасадов. В результате сложился характерный облик сравнительно небольших деревянных сооружений, определивший особенности рядовой застройки многих русских городов и сохранивший свое значение еще долгое время, когда самый «русский стиль» уже ушел в прошлое.
Другой линией было развитие частного строительства в «русском стиле» и разработка индивидуализированных проектов деревянных дач, загородных домов, городских особняков, примером которых может служить дом Пороховщикова, построенный А. Л. Гуном в Москве в 1872 г. Приветствуя этот первый дом в «русском стиле», журнал «Зодчий» писал: «Желательно, чтобы дерево не служило исключительным материалом для построек в русском стиле, но чтобы они возводились из кирпича и в более обширных размерах. Мы не ратуем за изгнание других стилей, но возмущает нас остракизм, которому обречен стиль русский в частных и общественных зданиях. ...Теперь начало сделано, и если вслед за постройкой дома г. Пороховщикова будут воздвигнуты каменные здания в русском стиле, то, по крайней мере в Москве, не одни постройки допетровской эпохи будут свидетельствовать о существовании самобытного русского зодчества» 36.
Однако не случайно попытки творчества в «русском стиле» применительно к каменной архитектуре, начатые Гартманом, не привели к успеху — они строились на достаточно неорганичной основе. Приемы и формы, типичные для деревянной архитектуры, без корректив переносились в многоэтажные дома. Те самые узоры полотенец, которые Гартман выкладывал из цветного поливного кирпича, стали заменять имитацией деревянной резьбы. Даже такое этапное, декларативное сооружение, как Политехнический музей в Москве, бывшее как бы итогом завоеваний Первой Всероссийской выставки 1872 г., в свою очередь продемонстрировало неорганичность самой попытки внедрения русского стиля в крупные кирпичные сооружения, отличавшиеся иной структурой, а главное, не имеющих ничего общего с народными прообразами и в смысле внешнего оформления фасадов.
Это двойная неорганичность не убеждала, однако, архитекторов, какое-то время пытавшихся перенести приемы, выработанные ими самими в деревянном строительстве и почерпнутые в «Мотивах русской архитектуры», на решение фасадов крупных доходных домов, типичным воплощением которых стал, например, дом Басина в Петербурге. Многие уязвимые стороны этого направления, которое хочется назвать «гартмановским», а не «ропетовским», в силу целого ряда изложенных выше причин, были прекрасно сформулированы одним из первых знатоков древнерусского зодчества — Н. В. Султановым: «Стремление работать в «русском стиле» есть,— говорил он,— есть и спрос на него...
...Лучшим оправданием нашего молодого художества служит та жадность, с которою оно набрасывается на всякий мало-мальски серьезный национальный источник: стоило, например, обществу поощрения художников издать русские народные вышивки — и мы тотчас же перенесли мотивы их на наши деревянные порезки; мало того, в силу необходимости мы пошли еще дальше и, надо сказать, пришли к нелепости: у нас появились мраморные полотенца и кирпичные вышивки!! И эти мраморные и кирпичные вышивки лягут позорным пятном на наше время: они прямо покажут, что в нашем юном искусстве была благородная жажда творить в национальном духе, но не нашла себе должного удовлетворения» 37. Неудачи таких отдельных попыток приписывались, однако, не глубочайшим противоречиям «русского стиля», а скорее неверному использованию первоисточников, побуждая искать все новые прообразы не только в народном строительстве, но в каменном зодчестве древней Руси, преимущественно XVI—XVII вв.
|
|
|
А. Л. Гун. Дом Пороховщикова в Москве, 1872 г. |
Обращение к допетровской Руси обосновывалось тем, что самобытное развитие русского зодчества именно тогда было искусственно прервано в результате петровских реформ и направлено по иному пути. К восстановлению прерванной преемственности призывал, например, русских зодчих и французский архитектор и теоретик Виолле ле Дюк, книга которого, посвященная русскому искусству, была переведена а издана тем же Н. В. Султановым именно в эти годы.
«Русское зодчество на той степени развития, которой оно достигло в XVII веке, представляет собою орудие, превосходное в том отношении, что широта основных начал не стесняет свободы художника и что можно задумывать самые смелые сочетания, оставаясь верным этим началам,— писал Виолле ле Дюк.—...Девятнадцатому веку следует воспринять прерванную работу. Но, чтобы довести это дело до хорошего конца, надо проникнуться духом, который руководил этими художниками в течение XVI и XVII вв., и забыть это обучение, которое считается классическим и которое не только в России, но и на всем европейском материке заставило искусство покинуть его логичный ход, согласный с духом племен и народностей» 38.
Эти слова, знаменующие собой сознательный отказ от признания художественных завоеваний полуторавекового развития зодчества, были опубликованы на рубеже 1870—1880-х годов в тот исторический момент, который не только стал переломным в русской истории, ознаменовав начало многолетней политической реакции, но в силу целого ряда причин оказался решающим для судеб дальнейшего развития «русского» направления.
В 1881 г. был в основном закончен храм Христа Спасителя в Москве— крупнейшее сооружение той эпохи, заложенное еще в 1839 г. в память Отечественной войны 1812 г., сооружение, в котором были как бы подведены итоги многолетнему господству тоновского «византийского стиля», хотя и существовавшему в модификациях, уже достаточно далеких от первоначальной. В том же году прекратило свое существование издание «Мотивы русской архитектуры», представлявшее на протяжении 1870-х годов один из важнейших источников распространения «русского стиля», противостоявшего официальным течениям. На смену этим двум, противоположным по идейной направленности течениям пришли новые направления «русского стиля», зародившиеся почти одновременно, но качественно отличные друг от друга по тому отношению к художественной форме, которое в них воплощалось.
|
|
|
Н. П. Васин. Доходный дом на Театральной площади в Петербурге, 1880-е годы |
Так, в 1881 г. были объявлены два больших архитектурных конкурса: на проект «Храма у подножия Балкан» 39 и на проект так называемого «Храма на крови» в Петербурге 40, в условиях которых были четко сформулированы совершенно определенные требования, провозглашавшие отныне официальным течением архитектуры «стиль XVII века», почти полностью вытеснивший начиная с 1880-х годов «византийский стиль» 41.
В том же 1881 г. родился замысел абрамцевской церкви — уникального сооружения в абрамцевском парке, по существу, открывшего новый этап в развитии русской архитектуры XIX столетия, воплотившего совершенно новые стилистические черты, еще не имевшие аналогий в современной ему архитектуре.
Причиной того, что именно в эти годы в русской архитектуре по «повелению свыше» обозначился крутой поворот к совершенно определенным историческим прообразам, знаменующим собой устойчивость консервативных течений, было не только воцарение Александра III, связанное с ярко выраженной реакционной охранительской политикой, но и те более сложные и многосоставные явления, которые были порождены балканскими событиями и русско-турецкой войной 1877— 1878 гг. Патриотические, а подчас и националистические настроения, которыми было захвачено русское общество, неоднородность этих настроений и их противоречивая сущность были прекрасно почувствованы Л. Н. Толстым.
«Славянский вопрос сделался одним из тех модных увлечений, которые всегда, сменяя одно другое, служат обществу предметом занятия»,— писал он в «Анне Карениной». Но при этом отмечал и «все возраставший энтузиазм, соединявший в одно все классы общества, которому нельзя было не сочувствовать. Резня единоверцев и братьев-славян вызвала сочувствие к страдающим и негодование к притеснителям. И геройство сербов и черногорцев, борющихся за великое дело, породило во всем народе желание помочь своим братьям уже не словом, а делом» 42.
Но каково бы ни было отношение к событиям турецкой войны в различных слоях русского общества, их официальное толкование, по существу, довольно мало отличалось от тех идей, которые вдохновляли первых создателей «византийского стиля» в 1830-х годах. Объединяющая славян освободительная роль России должна была воплотиться в монументах и архитектурных сооружениях. Однако теперь получает официальное признание уже не «византийский стиль», а «русский стиль» XVI и XVII вв. Именно это означали условия конкурса «на составление проекта православного храма, сооружаемого у подножия Балкан», который был объявлен в самом начале 1881 г. В условиях конкурса впервые было определенно указано: «архитектура храма — древнерусская (царского периода)» 43. Этим условиям полностью соответствовал победивший на конкурсе проект архитектора А. О. Томишко, представившего очень сухой по формам вариант ярославских кирпичных храмов, который не нес почти никаких следов современной интерпретации подлинников 44.
Такое буквальное толкование форм древнего наследия, типичное для 1880-х годов, было основано на все более пристальном научном изучении подлинников определенного исторического периода, причем точность копирования стала как бы синонимом художественного совершенства.
Археологизация архитектурных форм знаменовала собой начало нового этапа не только в реальной архитектурной практике, но и в изучении русского национального наследия зодчества. Это необходимо подчеркнуть именно потому, что связи и взаимовлияние между ними в этот период становятся особенно прямыми и непосредственными.
Состояние науки об архитектуре древней Руси находилось в тесной связи с развитием русской архитектуры современного периода, и требования современности оказались одним из стимулов изучения тех или иных периодов в истории русской архитектуры. Положение осложнялось той многослойностью, многосоставностью поисков «русского стиля», которые в косвенной форме отражали не только определенные идеологические течения, но и ту неоднородность, подчас полярность научных взглядов, начиная от объективного подхода к истории и кончая официальными версиями, которые обнаруживались в интенсивно развивающейся русской исторической науке второй половины XIX столетия. Применительно к истории русской архитектуры эта неоднородность выражалась в совершенно различном внимании и в разной степени изученности отдельных периодов ее развития, например в полном игнорировании псковско-новгородского и владимиро-суздальского зодчества и в сравнительно более близком знакомстве с московскими и ярославскими памятниками XVI—XVII вв. Иногда бывает даже трудно определить, являются ли натурные зарисовки и обмеры В. Суслова, Н. Султанова, Н. Павлинова, публиковавшиеся в номерах «Зодчего» в начале 1880-х годов, ответом на запросы современных архитекторов или, напротив, научно-изыскательская деятельность этих ученых вызвала к жизни многочисленные подражания XVI и XVII векам, повлияв на различные течения «русского стиля». Во всяком случае, неслучайной кажется одновременная публикация обмеров и тщательных зарисовок ученых-архитекторов с публикацией новых конкурсных проектов «Храма на крови» 45, которые продемонстрировали как тот тупик, в который зашел официальный «византийский стиль», так и то направление, которое пришло ему на смену. Однако, не вдаваясь в художественный анализ этих конкурсных проектов, поскольку здесь должны идти в ход совершенно иные, чем художественные, мерки и критерии, хочется отметить все же, что при всей произвольности сочетаний форм и нагромождении объемов во многих из них обнаруживалась какая-то варварская пластичность, обобщенность форм, говорящая о свободе если не в компоновке объемов, то в композиции фасадов.
Чрезмерно утяжеленные, преувеличенные элементы этих проектов ассоциируются скорее с проектами «русского стиля» 1870-х годов, и в частности с «Городскими воротами» Гартмана, с их фантастической декорацией и нагромождением объемов, чем с классически правильными, чрезмерно детализированными, архитектурно грамотными, но сухими, невыразительными сооружениями в «стиле XVII века». При всей ограниченности возможностей «византийского стиля», которая была продемонстрирована первым туром конкурса «Храма на крови», «стиль XVII века», оговоренный для второго тура этого конкурса, обладал еще большей ограниченностью именно в силу своей заданности. В результате победившие и на этих конкурсах, и на более позднем конкурсе на здание Московской думы 46 проекты в какой-то мере оказались шагом назад по отношению к такому этапному произведению «русского стиля», как Исторический музей (1875—1883 гг.) 47. Воплощая в жизнь совершенно определенные теоретические концепции, связанные с постижением композиционных приемов древнерусского зодчества, а не только его внешних форм, автор Исторического музея — В. О. Шервуд достиг определенных результатов в стремлении передать закономерности объемного построения древнерусских сооружений. Пусть эта первая попытка была обречена на неудачу и «перевешена» компилятивностью деталей, неорганичностью пространственного решения, нелогичностью и запутанностью рисунка плана и тяжеловесностью объема здания, все же в целом Исторический музей отличала новизна построения, говорящая о стремлении органично вписаться в историческое окружение.
Возможно, принципы Шервуда воплощались бы им более последовательно, если бы это сооружение по самому своему назначению 48 не должно было в какой-то мере наглядно отражать те концепции, которые исходили из утверждения исторической роли России. Но, даже несмотря на принятую в проекте Шервуда декларативность форм 49, которая должна была выражать исторические связи прошлого и современности 50, он оказался значительно выразительнее тех, выдержанных в едином «стиле XVII века» сооружений 1880—1890-х годов, которые создавались по официальному заказу.
Эта разница становится особенно очевидной при сравнении стоящих рядом зданий Исторического музея и Московской думы (1890—1892 гг.), сооружение которых разделяло всего одно десятилетие. Лишь на первый взгляд они кажутся принадлежащими к единому стилистическому направлению. Но, вглядываясь в устремленные ввысь башни Исторического музея, в выступающие боковые объемы, создающие сильную светотень, в разнообразные по форме окна, начинаешь видеть за измельченностью деталей и симметрией построения те попытки преодолеть «фасадность» объемностью и достичь динамичности архитектурных масс, которые представлялись Шервуду характернейшим отличием древнерусского зодчества.
|
|
|
А. И. Резанов, A. Л. Гун. Проект городской думы в Москве, начало 1870-х годов |
|
|
|
В. О. Шервуд. Исторический музей в Москве (1875—1883 гг.)
|
|
|
|
Д. Н. Чичагов. Проект городской думы в Москве. Фасад, 1887 г. |
|
|
|
Д. Н. Чичагов. Городская дума в Москве (1890—1892 гг.). План |
|
|
|
В. М. Васнецов. Церковь в Абрамцеве, 1881—1882 гг. |
Интересно, что аналогичные черты были воплощены в более раннем проекте здания городской думы, рассчитанном как раз на участок, занятый впоследствии Историческим музеем. Этот проект, созданный в 1870-х годах известными архитекторами А. И. Резановым и А. Л. Гуном 51 и оставшийся неосуществленным, представляет собой попытку уйти от академически уравновешенных композиций к живописному, асимметричному построению объемов, исходящему из принципов «хоромного зодчества». Мощный центральный ризалит фасада с тремя крупными арками, создающими сильные пластические акценты, фланкирован двумя разновысокими башнями, одна из которых явно рассчитана на визуальную связь с башнями Кремля. Такое свободное решение, во многом внутренне близкое тем композиционным поискам, которые велись в те же годы в области деревянной архитектуры Гартманом и Ропетом, как представляется, не могло, хотя бы косвенно, не повлиять на следующий за ним по времени проект Исторического музея. Шервуд как бы подвел итог этим поискам, сделав попытку достичь органичности в претворении внутренних закономерностей русского зодчества.
Но эти попытки были внутренне чужды создателям того «русского стиля XVII века», который увековечен в многочисленных общественных постройках 1880-начала 1890-х годов. В здании Московской думы с ее плоскостными фасадами, скрывающими типичное еще для классики строго симметричное построение плана, с часто поставленными окнами, окруженными точно скопированными с образцов наличниками, нет и следа той пластичности объемов и той живописности композиции, которые отличали избранные прообразы — палаты XVII в.
Фасады-ширмы, столь типичные для эклектики в целом, могут быть продолжены здесь сколь угодно далеко, например, так, как это сделано в огромном по протяженности здании Верхних торговых рядов. При безмерном увеличении зданий и их изменившейся структуре это вело к неизбежному измельчанию деталей, утрате реального масштаба, сухости и невыразительности фасадов и окончательной утрате пластичности форм и архитектурных объемов.
Иллюзия, что тщательное научное изучение архитектуры прошлого сможет вдохнуть жизнь в «русский стиль», была, по существу, одним из выражений наивного сциентизма, присущего всей эпохе в целом. Характерно, что эта точность сопутствовала как раз тем разновидностям «русского стиля», которые менее всего были связаны с романтическими реминисценциями, отличавшими работы Ропета и особенно Гартмана, где самый отказ от узко понятой архитектурной традиции, привлечение декоративных мотивов из самых разнообразных источников, иногда весьма далеких от архитектуры, интерес к народному фольклорному творчеству и свободная его трансформация — все это говорило о зарождении новых приемов, еще не получивших в работах самого Гартмана адекватного художественного воплощения.
Основным в них было исстари присущее романтизму раскрепощение от каких-либо традиционных канонов, в том числе и от канонов древнерусского зодчества и даже народного творчества, понимаемых слишком буквально, стирание границ между отдельными жанрами, между отдельными видами искусств и воссоздание древних художественных образов в новом романтическом ореоле.
Интересно, что уже неоднократно отмечавшееся расслоение «русских» течений очень точно отражало не только следование определенным общественно-политическим идеалам или официальным идеям, но и связь с романтическим мироощущением или его неприятие. Так, все «официальные» разновидности «русского стиля», начиная от «византийского», исповедовали достаточно далекие от романтизма охранительские идеи, что в полной мере отражалось и в особом прочтении определенных архитектурных прообразов. Напротив, в работах Гартмана и Ропета, и в особенности в абрамцевских постройках, была во многом заложена основа будущих стилистических поисков в русле «национального романтизма». Эти небольшие парковые сооружения, находящиеся как будто в стороне от основных путей развития архитектуры, были проникнуты тем самым романтическим мироощущением, которое диктовало известную театрализацию, приподнятость архитектурного образа, который ассоциировался с фольклорными мотивами.
В этом контексте оказывается совершенно оправданным и закономерным возникновение в той же художественной атмосфере абрамцевской церквушки — маленького монументального сооружения, которое было не столько итогом прошлого, сколько воплощением эстетических идеалов будущего. Трудно поверить, глядя на белокаменную абрамцевскую церковь с гладью стен и сочными резными деталями, с ее асимметрической уравновешенностью и соразмерностью, что она создана в 1881—1882 гг.
«В чем же отличие этой постройки от упомянутых раньше?— писал тремя десятилетиями позже В. Курбатов.— В том, что она была задумана с восторгом строителем, для которого храмы Новгорода действительно казались совершенными вещами. Он и старался достичь их красоты, воздерживаясь при этом комбинирования заимствованных с них форм. Неорусский (а не псевдорусский) стиль появился с того момента, когда русский художник с восторгом посмотрел на зодчество Москвы, Новгорода и Ярославля» 52.
Можно сказать, что абрамцевская церковь была создана словно в противовес тому огромному потоку казенных сооружений в «стиле XVII века», который по желанию «свыше» хлынул в русскую архитектуру с начала 1880-х годов. В связи с этим приобретает особый интерес история проектирования и сооружения этой небольшой загородной церкви, позволяющая вскрыть на этом частном примере сложнейший процесс преодоления эклектического мышления и обретения тех новых приемов, которые двумя десятилетиями позднее легли в основу художественной стилизации, отличающей эстетику модерна.
Надо сказать, однако, что восторг первооткрывателей, вдохновлявший создателей абрамцевской церкви, не был столь уж внезапным озарением. Во многом он был подготовлен работами зодчих «русского» направления 1870-х годов, так и не достигших в своем творчестве подлинно художественных высот, но тем не менее ощупью искавших те пути, которые во многом предопределили возникновение абрамцевской церквушки. К 1880-м годам, к началу работы над ее замыслом, уже стояли в абрамцевском парке по сторонам усадебного дома две «сказочные» постройки, словно предвещавшие появление в недалеком будущем васнецовской «избушки на курьих ножках». В этом романтическом окружении уже невозможно было появление ординарной кирпичной церкви в «стиле XVII века». Именно этим, романтическим мироощущением были пронизаны все предварительные проекты абрамцевской церкви, сделанные В. Поленовым, начиная с первой зарисовки романской часовни в тени густых елей и кончая последними вариантами, уже достаточно близкими к осуществленным в натуре 53. Хотя в специальной литературе церковь принято по традиции целиком приписывать В. Васнецову 54, по справедливости ее первоначальный замысел должен связываться с В. Поленовым, впервые наметившим тот приподнятый архитектурный строй, который позволил избежать обычных штампов, уже укоренившихся в церковном зодчестве той эпохи.
Архитектура церкви в эскизах Поленова с их непривычными для того времени ракурсами приобретала все большую пластичность и цельность, детали укрупнялись, объемы лепились все более сочно. Выразительный контраст между массивным телом церкви с его тяжелыми контрфорсами и легкой ажурной звонницей, между приземистым центральным куполом и венчающей звонницу, вытянутой вверх луковичной главкой целиком сложился уже в этих его эскизах, где все явственнее проступала та неуравновешенность, асимметрия, динамичность форм, которая говорила о зарождении нового художественного языка в архитектуре.
В. Васнецов, придавший облику абрамцевской церкви особую рафинированность и тонкость, умело выявил эти приемы, подчеркнув живописность, мягкость, нарочитую неправильность, «рукотворность» белокаменной церкви, окончательно устранив ту графическую точность, которая еще отличала эскизы Поленова. Не только заимствование прообраза из новгородско-псковского зодчества, что само по себе было явлением уникальным для того времени, но и самая трактовка этого прообраза говорили о том, что здесь целиком победили новые приемы.
Эта новизна заключалась не просто в подчеркнуто асимметричной композиции здания (в окончательном, васнецовском варианте оно в отличие от поленовских эскизов вновь стало симметричным), а в том особом «прочтении» первоисточника, которое покоилось на проникновении в дух «богатырских» прообразов и в общие закономерности стиля в отличие от буквального копирования форм. Можно сказать, что в архитектуре абрамцевской церквушки впервые явственно обнаружилось качественное различие между «стилизаторством» и «стилизацией», как между двумя совершенно разными способами прочтения исторических архитектурных прообразов, отличающими два разных этапа развития архитектуры — эклектику XIX в. и модерн начала XX в.
При всей трудности исчерпывающего определения этих двух сложнейших понятий, до сих пор еще иногда недостаточно уточненных и дифференцированных в специальной литературе, следует подчеркнуть одно решающее отличие подлинной стилизации — намеренную, сознательную эстетизацию архитектурных форм и усвоение основных закономерностей избранного стиля соответственно определенному современному художественному кредо, эстетизацию, предполагающую отступление от подлинника, его обобщение, даже некоторое формальное искажение во имя пластической выразительности, во имя той общей художественной идеи, которая лежит в основе архитектурного образа.
В отличие от стилизации, проявившейся лишь в русской архитектуре рубежа веков, развивающейся в основном под знаком модерна. под более ранним стилизаторством эклектики второй половины XIX в. крылось почти буквальное копирование отдельных декоративных форм и приемов.
Сознательная эстетизация, ставшая отличительным признаком стилизации, в стилизаторстве подменялась не обобщением, а археологической достоверностью отдельных деталей, которая считалась гарантией художественности. Понятия «стилизаторство» и «стилизация» можно квалифицировать как две последовательные стадии в освоении наследия прошлого. Их можно рассматривать и как своего рода два полюса в понимании художественной формы. Именно поэтому было столь закономерным полное неприятие В. Стасовым абрамцевской церкви, известной ему сначала в изображениях, а затем и в натуре, поскольку он прекрасно почувствовал ее качественное отличие от тех художественных концепций, которые он отстаивал. Характерно также и то, что он мотивировал свое неприятие именно несоответствием ее определенным историческим образцам новгородского зодчества, что объяснял простым незнанием художниками архитектуры древней Руси.
«Это именно то, что тут нет у нас перед глазами никакого творчества, много или мало замечательного,— писал он в 1895 г. художнице Е. Д. Поленовой,— и что разные наши художники, несколько лет тому назад рассказывавшие мне про эту постройку, как про некое чудо национального создательства, вовсе ничего не понимают в русской архитектуре и в русском национальном искусстве... В этой церкви ровно ничего нет особенного или художественного... Тут уже ничего нет общего с древнерусским стилем и складом XII века, в характере которого хотели строители соорудить эту церковь, как мне рассказывали» 55.
Озабоченный тем, чтобы воплотить в современной, сегодняшней, реальной архитектуре документальные черты национального зодчества, Стасов прошел мимо того стилизованного сказочного архитектурного образа, который был ему внутренне чужд. Но он допускал его, например, для иллюстраций Поленовой, уже очень близких по своей формальной сущности к графике грядущего модерна.
«Посмотрите, какие формы церквей и куполов встречаются у Вас, например, в «Войне грибов»,— писал он ей там же.— Тут, правда, встречается смесь разных столетий, и ХII-го, и XIV-го, и XVI-го или XVII-го, но в сказке так и надо, так и позволительно вполне — и первый великолепный пример подает (по части литературы) сам Пушкин в своих чудных, столь глубоко национальных сказках про царя Салтана и проч. и проч. Тут и в содержании и в подробностях столетия перемешаны и слиты вместе» 56.
В этих словах Стасова содержится множество характернейших для воспитавшей его эпохи аспектов, начиная с допущения «смеси разных столетий» и кончая ссылками на чисто литературный пример, «словесный» прецедент, что еще раз свидетельствовало о присущем мироощущению самого Стасова и всей его эпохи литературоцентризме. Но не менее характерно и то, что Стасов, отрицая новые черты художественной стилизации в архитектуре, восхищался ими же в рисунках Е. Д. Поленовой. Между тем свобода интерпретации архитектурных подлинников, так возмущавшая его в абрамцевской церкви, проявилась тогда не только в иллюстрациях к сказкам, но и в других областях художественного творчества, и прежде всего — в декорационном искусстве. Если в 1867 г. архитектор И. Горностаев «реконструирует по археологическим материалам» 57 декорацию гридницы Светозара к «Руслану и Людмиле», прежде всего стремясь к максимальной достоверности деталей, то в 1886 г. художник В. Васнецов, создавая палаты царя Берендея в «Снегурочке», исходит уже из совершенно иных приемов. Красочность, пластичность никогда не виданных фантастических, сказочных архитектурных форм, театрализация архитектурного образа, отказ от второстепенных деталей, выявление наиболее характерных особенностей древнего зодчества — все эти черты роднили театральные декорации В. Васнецова и его первые постройки в «русском стиле», отличающиеся от гартмановских сооружений той обобщенностью архитектурного образа, которая свидетельствовала о формировании новых эстетических концепций.
Теснейшая связь архитектуры с более общими художественными процессами своего времени придавала совершенно особый оттенок многим ее произведениям. Это не значит, конечно, что отдельным течениям архитектуры могут быть подысканы прямые аналоги в художественной культуре того времени. Всякие попытки проведения таких прямых параллелей оказываются обычно достаточно натянутыми и внутренне неоправданными. Важнее подчеркнуть другое — органичное вхождение архитектуры в контекст художественных исканий своего времени, иногда даже превышающее ее специфические возможности. Не только первые парковые постройки, вдохновленные литературными образами романтизма, не только «Картинки с выставки», где Мусоргский дал гениальную музыкальную интерпретацию того огромного впечатления, которое произвело на современников полное смелых открытий творчество В. А. Гартмана, но и первые архитектурные пробы художников-живописцев в Абрамцеве — все это говорило о той важной роли, которую играла архитектура в художественном миросозерцании второй половины XIX в. Эта теснейшая связь с художественными процессами эпохи, видимо, и позволяла современникам видеть в русской архитектуре, и в особенности в отдельных течениях «русского стиля», те черты, которые стали скрытыми для потомков, воспринимающих и изучающих ее вне исторического наполнения. Между тем она несомненно на только отвечала реальным потребностям развивающегося русского капитализма, но и в большой мере соответствовала духовным запросам эпохи, формировавшимся под влиянием сложнейших общественно-исторических условий России того времени.
«В течение последней четверти столетия русская архитектура сделала такие огромные шаги вперед, что просто глазам не веришь» 58 — эти слова В. В. Стасова, произнесенные в 1882 г., были подтверждены им вновь уже на рубеже XX столетия: «По моему мнению, из всех искусств, прославивших XIX век, наибольших результатов достигли — архитектура и музыка. И это потому, что в области этих двух искусств всего более побеждено, в наше время, предрассудков, привычек и преданий» 59. Эти слова приводятся нами здесь не как ставшая традиционной ссылка на мнение авторитетного критика и тем более не как пример его ошибок и пристрастий 60. Представляется, что мнения Стасова о современной ему архитектуре лишь в последнее время начинают оцениваться объективно и требуют еще дальнейшего исследования и обобщения. Здесь хочется лишь подчеркнуть, что именно крайности в высказываниях Стасова делают более понятным, как могли он и его современники не только не замечать неорганичность русских «полотенец» на деревянных и каменных зданиях, но и спустя много лет оставаться их убежденными приверженцами.
Вошедшая почти в поговорку пристрастность Стасова в данном случае выражает те более общие пристрастия эпохи, которые многое объясняют если не в сущности эклектики, то, во всяком случае, в ее приятии современниками. Вопреки установившимся представлениям архитектуре того времени в той же мере, что и музыке, была присуща атмосфера творческих поисков, непрерывного становления, изменения, развития, что в сочетании с успехами инженерной техники и растущими масштабами строительства должно было создавать необычайно впечатляющую картину. Не застой и упадок архитектуры, как впоследствии слишком однозначно было принято оценивать период эклектики, а период открытий, иногда даже превышающих художественные возможности зодчества,— вот что видел Стасов и многие его современники в архитектуре его времени. Обращение к национальному наследию, отвечавшее духовным запросам эпохи, также во многом заслоняло от них ту художественную ограниченность, которая была тем менее заметной, что общие художественные закономерности эпохи на первый взгляд целиком усваивались и архитектурой того времени, в наглядной форме отражавшей и подхватывающей владевшие обществом идеи.
Эта наглядность, зримость, даже «символичность» архитектурных форм, их конкретность и достоверность, понятые слишком буквально, ни в чем не противоречили, казалось бы, той достоверности зримого мира, которая воспринималась глазами художников-реалистов. Понадобилось немалое время, чтобы эти качества архитектуры показались не во всем соответствующими эстетическим закономерностям других искусств и чтобы то «божественное чуть-чуть», которое всегда отличало подлинное искусство всех эпох, показалось ушедшим из архитектуры, подсказывая зодчим насущную необходимость творческих поисков нового стиля, воплотившегося на рубеже веков в модерне.
Необычайно характерно, что кризисные явления в русской архитектуре конца столетия были осознаны зодчими как бы изнутри, когда будущий «новый стиль» — модерн с его новаторскими формообразованиями еще не вышел за пределы творческих лабораторий европейских зодчих. Более того, можно утверждать, что русская архитектура конца XIX в. была внутренне готова к восприятию этих новых эстетических концепций еще до того, как они были сформулированы и конкретизированы в изобразительном искусстве. В большой мере это было связано с тем, что наряду с первыми поисками пластичности в архитектуре в ней все более сильно проявлялись и те тенденции, которые были связаны с техническими достижениями эпохи. Все более смелое внедрение прогрессивных металлических конструкций вело к тому, что функциональная сторона сооружений не только продолжала совершенствоваться, но и приобретала совершенно особые качества, выражавшиеся в новых пространственных решениях зданий. «Два новые элемента, национальность и стройка из железа и стекла, являются самым важным из всего, представляемого историей архитектуры XIX века» 61— писал Стасов в начале XX столетия, подводя итоги ушедшего века. Он одним из первых оценил те новые пространственные завоевания, которые были основаны на применении прогрессивных металлических конструкций. Эта линия развития архитектуры была одной из тех сложных составляющих, которые наряду с чисто художественными образными поисками в архитектуре привели к качественным ее изменениям на рубеже XX в.
Особенности решения пространства в архитектуре эклектики в России, присущие ей еще с 1840—1850-х годов, хотя и не носили столь радикального характера, как в европейском зодчестве, тем не менее продолжали развиваться в архитектуре самых разнообразных зданий, получая в каждом из них свое, наиболее рациональное решение. При этом понимание «рационального» в эти годы претерпело достаточно коренные изменения по сравнению с началом рассматриваемого периода. Если тогда рациональность в архитектуре понималась прежде всего как соответствие «стиля», внешнего вида, «архитектурного образа» здания его назначению, то в дальнейшем «рациональность» в архитектуре все более стала пониматься как «правдивость материала», и в частности как выявление декоративных возможностей материала, из которого построено здание. В этом отношении деревянные и кирпичные постройки Гартмана были тем архитектурным экспериментом, где зарождалось это новое понимание рационального. «Кирпичный стиль», вначале почти неотделимый от «русского стиля», к концу XIX в. начал все более обособляться от него, приобретая те черты, которые позволяли говорить о правдивости материала в применении к массовым кирпичным постройкам. Естественно, что эти особенности «кирпичного стиля» было бы преувеличением считать проявлением рационализма, в нашем современном понимании. Но самое стремление к правдивому использованию материала говорило о зарождении новых тенденций в русской архитектуре. Затем понимание «рациональности» получило более углубленное толкование, будучи связано с функциональными и конструктивными достижениями архитектуры и, главное,— с отказом от подражательности. «Проведение в жизнь начал рационального зодчества — вот цель и назначение нашего издания,— говорилось в редакционной статье первого номера журнала «Строитель» в 1894 г.— Оставим древнему эллину создавать несравненные храмы с их величавыми портиками и колоннадами. Пусть извращенный мавр в далекой Гренаде сплетает свои причудливые аркады на грациозных, как юные альмеи, колоннах... Пусть пылкая фантазия востока рисует нам великолепные мавзолеи и пагоды! Мы будем любоваться их созданиями, преклоняться перед силою их творческого духа. Но наше «прекрасное» — в самобытном и рациональном» 62.
Зарождение этих новых тенденций в архитектуре было продемонстрировано на Всероссийской художественно-промышленной выставке 1896 г. в Нижнем Новгороде, созданной как бы на стыке двух эпох и наглядно отразившей сложность и многосоставность русской архитектуры и русского искусства того времени 63. Пожалуй, нет ни одного искусства (включая только что родившийся кинематограф 64), для которого эта выставка не была бы решающей вехой, знаменующей начало нового значительного этапа в становлении художественных взглядов. Общеизвестными стали события, связанные с демонстрацией на выставке монументальных панно Врубеля, официально не признанных ее экспонатами. Но несравненно менее известными были до последнего времени те новые явления в архитектуре Нижегородской выставки, которые мгновенно были отмечены, хотя и по-разному встречены современниками. Многообразие форм, жанров, масштабов не могло скрыть той двойственности, той полярности тенденций, которые обнаруживались в архитектуре ее павильонов несравненно полнее, чем в современной ей «серьезной», капитальной архитектуре.
Наряду с впечатляющими пространствами главных крупных павильонов с их металлическими конструкциями, огромными витражами-окнами, остекленными перекрытиями и все более неорганичным орнаментом, столь типичным для эклектики конца столетия, наряду с «теремками» и большими деревянными павильонами, сочетающими «чистоту» деревянных конструкций с измельченной, немасштабной резьбой на фасадах, в архитектуре Нижегородской выставки явственно обнаружились две новые тенденции 65. Одна из них, связанная с творчеством талантливого молодого инженера В. Г. Шухова, проявилась в необычайной смелости «сетчатых» металлических конструкций 66, в ряде павильонов доведенных до рафинированной эстетической выразительности. Другая сказалась в сооружении небольшого павильона, где впервые с такой чистотой и ясностью было продемонстрировано тяготение к экспрессивной, пластической форме в архитектуре, еще не нашедшее воплощения в работах профессиональных зодчих.
Речь идет о павильоне Крайнего Севера, небольшой деревянной постройке, созданной художником Константином Коровиным 67. Кажется очень закономерным, что создание этого павильона, во многом предвещавшего рождение нового стиля в архитектуре, было связано с именем художника-живописца, если вспомнить, что за десятилетие до этого столь же уникальное для своего времени сооружение было создано в Абрамцеве художниками В. Васнецовым и В. Поленовым. Дело здесь не только в том, что атмосфера Мамонтовского кружка, с которым К. Коровин был связан так же близко, как и Васнецов с Поленовым, была удивительно благоприятной для смелых художественных поисков, хотя и это необычайно важно. Но самое главное состоит, пожалуй, в том, что именно в архитектурном творчестве художники могли удовлетворить ту тягу к пластическому, которую профессиональные зодчие ощутили несколько позже и которой художники-живописцы еще не находили места в своих полотнах. В самом деле, если сравнить живописные работы В. Васнецова или В. Поленова, созданные ими в годы проектирования абрамцевской церквушки, с тем, во что воплотился их проект, то окажется, что пластический язык их живописи был в то время несравненно более традиционным, нежели новаторская по формальной своей сущности, белокаменная, словно вылепленная их руками, церковь. В той же мере можно утверждать, что и. «вылепленный» Коровиным образ павильона Крайнего Севера был несравненно более дерзким и новаторским по форме, нежели те живописные «Северные панно», которыми он его украсил 68.
|
|
|
А. H. Померанцев. Павильон машинного отдела на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Фасад, 1896 г. |
|
|
|
И. П. Ропет. Павильон садоводства на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Фасад, 1896 г. |
|
|
|
В. Г. Шухов. Павильон фабрично-заводского отдела на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Фасад, 1896 г. |
Свежесть облика этого деревянного павильона, не имеющего аналогов ни в архитектуре прошлого, ни даже в деревянной архитектуре русского Севера, основанного не на архитектурных, а на совершенно иных образных ассоциациях, была обусловлена полным отсутствием привычных декоративных деталей и предельной лаконичностью крупных, угловатых и все же очень пластически выразительных объемов, мерцающих тончайшими оттенками светлого серого цвета. Этот совершенно новый подход к архитектурному образу, в чем-то роднящий архитектуру со скульптурой и живописью, был настолько неожидан и радикален, что должен был поражать не только художников-профессионалов 69.
Сам Коровин приводит очень колоритный отзыв одного из строителей этого павильона: «...Верите ли, краску целый день составляли, и составили прямо — дым. Какая тут красота? А кантик по краям чуть шире я сделал. «Нельзя,— говорит,— переделывай...» Ну, что... сарай и сарай. Дали бы мне, я бы... павильон отделал в петушках, потом бы на дачу переделали...»70.
Новизна приемов, смело введенных Коровиным, в особенности явственно обнаруживается при сравнении этого павильона с первоначальным его проектом, разработанным архитектором Л. Н. Кекушевым, который представил довольно ординарную попытку имитации архитектуры северных факторий. Осуществление именно коровинского варианта знаменовало собой стремление к очищению от тех исторических ассоциаций, путы которых делали невозможными дальнейшие стилистические поиски. С другой стороны, оно впервые открыто продемонстрировало те приемы, которые легли впоследствии в систему художественной стилизации, предопределившей эстетику модерна. Сравнение павильона Крайнего Севера с любым другим павильоном Нижегородской выставки (кроме шуховских) позволяет увидеть качественную разницу между стилизаторством и стилизацией, разницу, свидетельствующую о зарождении новой архитектурной эстетики.
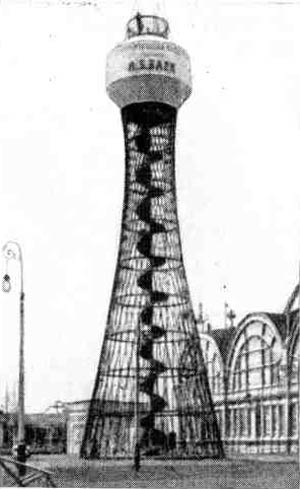 |
 |
| В. Г. Шухов. Водонапорная башня на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде, 1896 г. |
К. А. Коровин. Павильон Крайнего Севера на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде, 1896 г. |
Кажется совершенно закономерным, что этот перелом наметился в архитектуре в период интенсивных художественных поисков, которые велись в русском искусстве, и в период зарождения важнейших общественно-политических движений конца XIX в. В этот переломный момент, когда растущие противоречия капитализма в России становились все более очевидными, был созван в 1892 г. первый в истории съезд русских зодчих — событие исключительной важности для всей русской художественной культуры.
Оглядываясь на практику русской архитектуры второй половины XIX в., можно сказать, что созыв этого съезда был подготовлен всем ходом ее развития. Вопреки установившимся представлениям о присущем зодчим этого времени индивидуализме архитектурную жизнь этих нескольких, важнейших десятилетий отмечали совершенно особые черты. Выше уже отмечалось возрастающее общественное внимание к архитектуре и ее отдельным произведениям, что нашло, в частности, отражение в распространении периодической архитектурной печати, в особенности к концу XIX в. Но была еще другая сторона архитектурной деятельности, характерная для архитектурной жизни России периода капитализма. Как бы в противовес растущей капиталистической конкуренции, никогда до этого зодчество не было столь тесно связано с коллективным творчеством, с совместной проектной и практической работой отдельных мастеров. Собственно, понятие соавторства в самом точном значении этого слова, принятом в наши дни, зародилось именно в рассматриваемый период.
Хотя обычно принято говорить о все большем разделении труда в архитектурном творчестве этой эпохи (и в частности о разделении труда инженера и архитектора, что является наиболее характерным для последующего столетия), более справедливо, пожалуй, говорить о консолидации сил зодчих периода эклектики, сказавшейся в распространении совместного архитектурного творчества, что не могло не оказать влияния и на стилистическую общность отдельных архитектурных течений.
Не только молодые архитекторы, но и зрелые зодчие сотрудничали при проектировании и строительстве многих крупных объектов, причем отнюдь не считалось унизительным для законченного мастера осуществление в натуре проекта другого зодчего. Широкое распространение в русской архитектурной практике подобных случаев свидетельствовало скорее о силе, чем о слабости творческих возможностей зодчих. Архитектура тем самым оказывалась делом общественным в прямом значении этого слова.
Присущее этому времени стремление к обобщению своих взглядов на архитектуру и насущная необходимость поделиться ими со своими коллегами, проявившиеся очень ярко в архитектурной печати, закономерно привели к созыву первых съездов зодчих, как бы подводящих итоги развития архитектуры всего XIX столетия. Хотя во многих выступлениях зодчих на I и II съездах, состоявшихся в 1892 и 1895 гг., все более звучали тревожные ноты, поскольку для них становилось очевидным нарастание кризисных черт в творческих методах эклектики, самое признание этого свидетельствовало о сознательных поисках дальнейших путей развития русского зодчества.
«Причины явного упадка вкуса в гражданской архитектуре нашего времени кроются, надо полагать, в многочисленных переменах, коснувшихся в новейшее время нашей жизни, но тем не менее еще не установившихся и препятствующих художникам выбрать одно общее и постоянное направление во всех отраслях искусства. Всякий стиль в архитектуре выражает вкусы и общественное течение известного времени. В наше же время не существует тесной связи между привычными понятиями об искусстве и художественным их выражением в архитектурных композициях: прежние приемы устарели, а новые еще не успели выработаться в точно определенные формы; в настоящее время мы переживаем борьбу старых преданий в архитектуре— с новыми воззрениями. Вот главная причина, затрудняющая появление нового современного стиля в гражданской архитектуре» 71,— говорил на открытии I съезда зодчих его председатель, старейший русский архитектор Р. А. Гедике. Осознание объективной необходимости грядущих перемен, пронизывавшее всю общественную жизнь конца XIX столетия, не могло не отразиться в выступлениях зодчих и на II съезде, состоявшемся в том самом 1895 г.
В связи с этим представляется отнюдь не случайным, что именно на этом съезде в особенности подчеркивалось огромное общественное значение архитектуры. «Какая есть возможность избегнуть впечатлений архитектуры? Я могу по желанию любоваться или нет произведениями скульптуры или живописи, могу читать или не читать художественные создания слова, могу слушать или не слушать музыку; но как укрыться от впечатлений улицы, по которой хожу, зданий, которые должен посещать, и, наконец, неудобства моего собственного жилья? Никак и никогда не уйти от этих впечатлений. Неотступно, обязательно охватывают нас произведения архитектуры, и эта неотступность, эта обязательность создают вполне особенные отношения архитектуры к обществу, особые условия ее развития. Отсюда то, что ни в одном другом искусстве, в лучшие эпохи развития, личность художника не выделяется так мало, ни в одной области произведения не являются в такой степени следствием сложного эволюционного развития, в столь многом от художника не зависящего...
...Правы те, которые сетуют на современную русскую архитектуру, на то что в ней мало самобытности, но не правы те, которые, не вдумываясь во всю сложность этого явления, не обращают внимания на ту роль, которую играют здесь общественное развитие наряду с зодчими, на самый склад современной жизни, в которой чувствуется отсутствие объединяющей идеи. Не правы те, которые ради создания оригинальности умышленно отвертывались бы от всего, что привлекает и чарует нас в прошлом опыте человечества» 73 — эти слова, сказанные К. М. Быковским за пять лет до конца XIX столетия, подытоживали тот сложный путь, который прошла за несколько десятилетий русская архитектура.
Попытки зодчих в конце XIX в. подвести итоги истекшего столетия 74 и осмыслить возрастающие противоречия современной им архитектуры России, естественно, еще не свидетельствовали об историчности их оценок. Важно отметить другое, то, что речь шла не только о кризисных явлениях в творческих методах эклектики, но и о положительном опыте и о стремлении к осмыслению дальнейших путей развития русского зодчества, что лучше всего свидетельствовало о неисчерпанных творческих возможностях зодчих и о плодотворности пройденного ими пути.
Надо сказать, что архитектура эклектики относится к тем редким художественным феноменам, объективная оценка которых запоздала почти на половину столетия. Существует мнение, что каждый стиль в архитектуре обычно отрицается «детьми» и вновь признается «внуками» действовавшего тогда поколения зодчих. По отношению к эклектике это образное утверждение оказывается неприменимым. Ни «внуки», ни даже «правнуки» не могли достичь того аналитического, исторически объективного отношения к эклектике, которое начинает зарождаться лишь в наше время. Более того, архитектуре периода эклектики долгое время «не везло» как бы с двух сторон.
Поначалу, когда ее соотносили только с русским классицизмом, она неизменно представала, как воплощение примет художественного упадка, как «беспринципное» направление, вытеснившее классицизм и не имеющее объективной самостоятельной ценности. Но и впоследствии, когда архитектуре периода капитализма в России стали уделять все более пристальное внимание, когда стиль 1900-х годов — модерн уже пользовался всеобщим признанием, архитектура эклектики продолжала рассматриваться как «низший этап» развития русского зодчества этой эпохи, в лучшем случае, как стилевой «антипод» модерна.
Подобное отношение к творчеству русских архитекторов нескольких поколений кажется не только несправедливым, но и исторически необъективным и может быть преодолено, если видеть в эклектике свои, лишь ей присущие особенности и закономерности, действительно принципиально отличные как от ушедшего классицизма, так и от грядущего модерна. Архитектура второй половины XIX в. сохраняет непреходящую ценность как органическое для определенного исторического этапа явление, неотделимое от художественных исканий своего времени, что делает ее значение неизмеримо более широким, нежели только роль предтечи зодчества XX столетия, и в частности — модерна.
До недавнего времени, даже говоря об объективных достижениях архитектуры эклектики в России, было принято ограничиваться положительной оценкой лишь ее конструктивных новшеств и функциональных решений. Бесспорно, это была сильная сторона в зодчестве эклектики, но ее значение далеко не исчерпывалось этим.
Как мы старались показать, важное место в системе архитектурных взглядов этого периода занимали поиски нового образного языка в архитектуре, которые свидетельствовали о зарождении и развитии совершенно новых художественных закономерностей, во многом исходящих из романтических эстетических концепций и развивающихся в контексте общих художественных поисков своей эпохи.
Присущий этому времени историзм художественного мышления обусловил не только свойственный эклектике «разумный выбор» архитектурных форм из богатейшего арсенала зодчества прошлых эпох, но знаменовал и постоянное обогащение пространственных решений, поначалу также исходивших из разнообразных исторических прецедентов. Эпохальные сооружения западноевропейской эклектики с их смелыми конструктивными новшествами не случайно до сих пор вызывают образные ассоциации с поразительными пространствами готического и византийского зодчества. В России пространственные поиски в архитектуре также развивались в теснейшей связи с художественно-образными исканиями, в свою очередь служа мощным стимулом для чисто технических, конструктивных завоеваний. Представляется, что эти образные поиски, и в частности сохранение и трансформация на протяжении всего рассматриваемого периода эстетических концепций романтизма, обусловивших развитие различных направлений «русского стиля», имели не меньшее значение для развития архитектуры, чем обычно отмечающиеся функциональные завоевания.
Эти сложнейшие процессы в архитектуре второй половины XIX в. предстают как различные стороны единого, но противоречивого художественного феномена, целиком связанного с общественно-историческими конкретными условиями и эстетическими поисками своей эпохи. Рассмотрение эклектики, ее зарождения и формирования, в контексте всей художественной жизни того времени позволяет не только более объективно оценить ее важнейшие закономерности, но и ощутить ее большую роль в создании совершенно особой жизненной среды, в свою очередь во многом определявшей мироощущение ее современников.
А. Е. Борисова. Русская архитектура второй половины XIX века. Наука, 1979

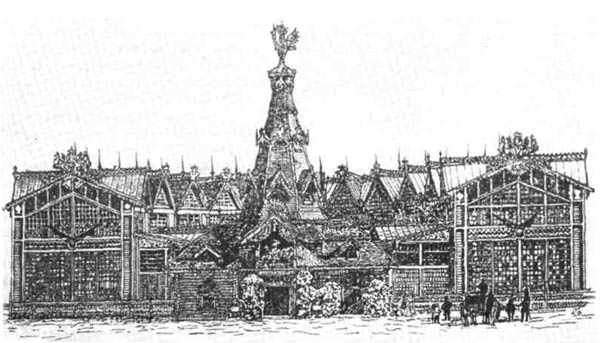
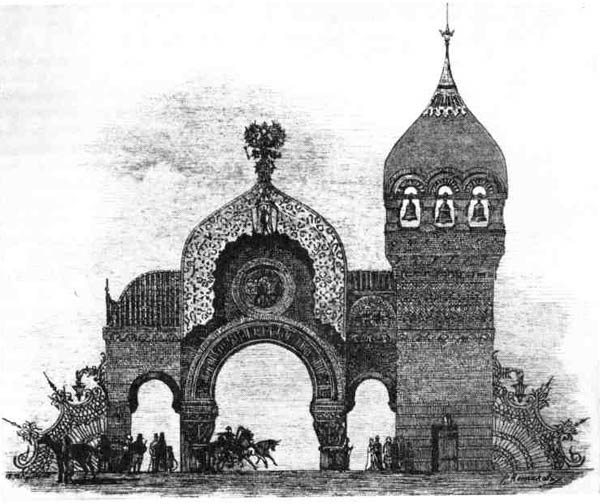
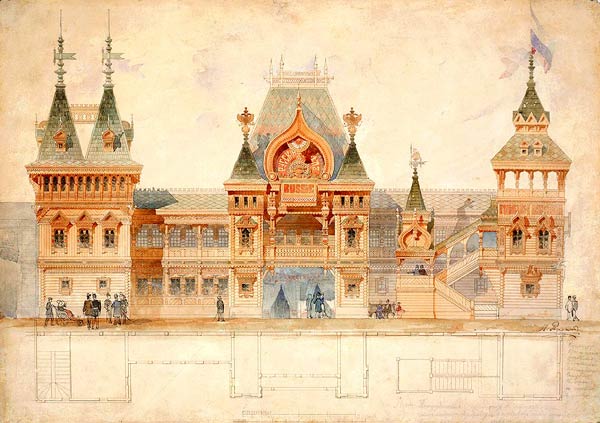






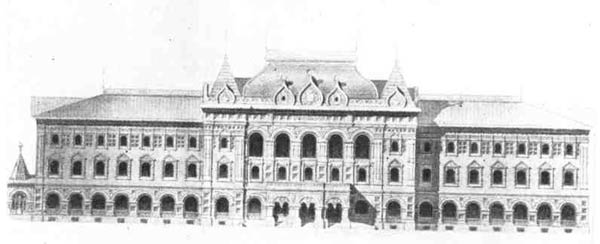
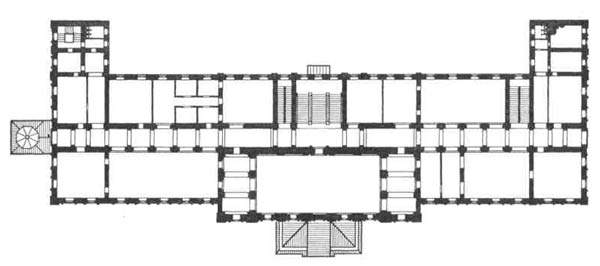

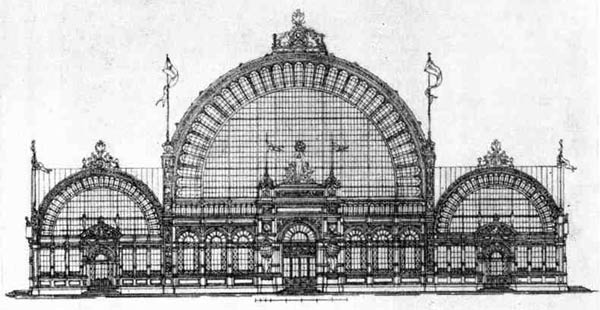
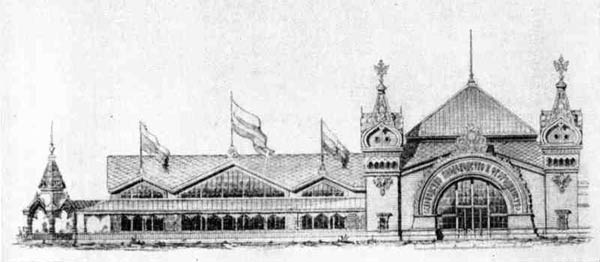
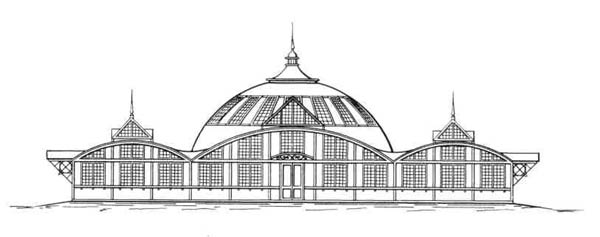

Добавить комментарий