Новые тенденции в русской архитектуре 1830-1850-х годов
Формированию архитектуры второй половины XIX в. в Россиипредшествовал достаточно длительный подготовительный этап, в течение которого сложились главные закономерности нового архитектурного направления — эклектики, претерпевшие тем не менее в дальнейшем довольно значительную трансформацию, что не позволяет подходить ко всему периоду в целом с одними и теми же оценками. В частности, те оценки, которые мы привыкли относить к русской архитектуре последней трети и конца этого столетия, лишь отчасти могут быть приложимы к тому раннему этапу развития эклектики, который следовал непосредственно за русским классицизмом. При этом надо сразу же отметить, что сложнейший процесс становления новых архитектурных взглядов, захвативший всю Западную Европу, в русских условиях приобрел особую специфику. Особенности общественно-исторического и социально-экономического развития России, где к середине века еще не были изжиты феодальные отношения, тормозившие дальнейшее развитие капитализма, не могли не отразиться и на русской архитектуре, хотя она в целом развивалась в общем русле исканий европейского зодчества, несколько раньше вставшего на путь стилистических преобразований. Это исторически обусловленное «запаздывание» было причиной того, что многие явления, так или иначе откристаллизовавшиеся в европейской архитектуре, как бы в «готовом виде» могли усваиваться русскими зодчими. Вместе с тем уже на первых порах перед ними встал целый ряд проблем, в разрешении которых им лишь отчасти мог помочь европейский опыт. При этом следует иметь в виду, что процесс формирования новых архитектурных воззрений во многом основывался и на завоеваниях, уже достигнутых в других областях русской художественной жизни. Именно поэтому рассмотрение русской архитектуры и тех стилевых изменений, которые в ней совершились, оказывается наиболее плодотворным лишь в связи с теми явлениями, которые очень ярко рисуют атмосферу брожения и становления нового в художественной жизни в целом. Особыми свойствами этой исторической атмосферы отчасти можно объяснить сравнительно быстрое приятие новых форм в архитектуре, сменивших когда-то незыблемые формы позднего русского классицизма, закат которого оказался для современников чем-то неизмеримо большим, нежели просто смена стиля.
Архитектурная практика предстает перед нами в этом случае как некий определенный результат сложнейших социально-исторических процессов и эстетических исканий, характерных для России того времени. При этом процессам, которые совершались в недрах классической архитектуры, соответствовали более общие творческие поиски новых средств выражения в литературе и искусстве и изменения, происходившие в художественном мировоззрении в целом.
Надо сказать, что, обращаясь к изучению архитектуры эклектики в России, и не только в России 1, оказывается необычайно сложным точно определить тот рубеж, тот «нижний предел», с которого можно было бы с уверенностью начать отсчет лет этого периода. В последнее время в советском искусствознании его рассмотрение все чаще начинают не с 1840-х, а с 1830-х годов 2. Такое изменение представляется вполне правомерным, поскольку переход от русского классицизма к новому направлению в архитектуре был необычайно сложным и длительным процессом, по существу, начавшимся еще тогда, когда классицизм сохранял ведущие позиции в русском зодчестве.
Может быть, именно поэтому довольно долго наследие 1830-х годов освещалось скорее с позиций уходящего классицизма 3, чем с точки зрения наступающей эклектики. Это значительно сужало аспект рассмотрения материала, влияя и на уменьшение круга анализируемых памятников и на их объективную оценку. Элементы эклектизма в архитектуре 1830-х годов трактовались обычно не как приметы нового, а лишь как нежелательные признаки упадка русского классицизма, а потому и произведения, обладающие этими новыми признаками в наибольшей степени, обычно игнорировались исследователями. Таким образом, получалась довольно односторонняя картина и многие явления этих лет, дающие богатый материал для обобщений, оставались вне поля зрения.
Между тем период 1830—1850-х годов представляется очень интересным, хотя и наиболее сложным для исследования, как и всякий переходный этап в развитии любого искусства. Ведь именно тогда, в 1830—1850-х годах, в сознательной и целеустремленной борьбе с концепциями классицизма сложились новые эстетические закономерности архитектуры, которые были поддержаны и развиты во второй половине XIX в 4. Именно тогда наступил перелом в развитии русской архитектуры, начавшей уже с начала 1830-х годов развиваться по совершенно новому пути, во многом определившему дальнейшее направление развития русской архитектуры. Объективный анализ показывает, что начальный этап развития эклектики был не только периодом упадка, ухода с исторической арены русского классицизма, но и периодом зарождения и развития новых явлений в архитектуре, временем не только отрицания, но и утверждения, не только поражений, но и завоеваний.
Почему от совершенной в своем роде, законченной и отточенной по форме архитектуры русского классицизма в сравнительно короткий срок был совершен радикальный переход к принципиально иной архитектуре? Насколько сознательным, а не стихийным был этот переход? Почему самое понятие прекрасного в архитектуре претерпело такую трансформацию? Почему изменились композиционные приемы и функциональные качества сооружений, изменилось даже самое отношение к художественной форме в архитектуре? Представляется, что ответ на эти вопросы не может быть дан в отрыве от социально-исторических условий, которые сопровождали возникновение и развитие архитектуры эклектики в России, и от новых художественных воззрений, которые складывались в первой половине XIX в. не только в архитектуре, и даже преимущественно не в архитектуре, но и в других искусствах. Специфика художественной жизни 1830—1850-х годов была в большой степени связана с особенностями исторической действительности России того времени, когда после поражения декабристов, в гнетущих условиях николаевского режима, центр тяжести общественной жизни во многом перемещался на искусство. Ожесточенность литературной полемики, борьба художественных групп, по существу, подменяли собой запрещенные политические споры, отчасти давая выход общественному протесту. Может быть, именно поэтому было столь неотрывно приковано, например, внимание Третьего отделения к русской литературе и к журналистике, игравшим на этом этапе совершенно особую роль в жизни русского общества. За невинными на первый взгляд, а иногда и совсем не невинными литературными спорами и критическими отзывами стояли невысказанные политические взгляды идейных противников, в замаскированной форме велась дискуссия о дальнейших судьбах России. Острота литературной борьбы, за которую нередко расплачивалась если не жизнью, то личной судьбой, естественно, не могла ограничиваться узкими рамками одной литературы, предопределяя огромную общественную роль русского искусства. В частности, никогда до этого вопросы, связанные с искусством, и в том числе с современным зодчеством, не обсуждались столь широко на страницах специальной периодической печати, зародившейся как раз в эти годы. Сюда относились не только небольшие хроникальные заметки в художественных журналах о строительстве в России и за границей, не только статьи об отдельных новых сооружениях, но и работы, посвященные более общим вопросам современной архитектурной практики, а также отдельным памятникам и архитектурным стилям прошлого. Именно в эти годы можно говорить о сознательном воздействии литературно-художественной, если еще не собственно архитектурной, печати на формирование архитектурных вкусов «широкой публики» и о стремлении повернуть их в нужном направлении, «образовать» их. В этом сказались, несомненно, те более общие тенденции к просвещению, которые способствовали расширению сферы воздействия искусства и постепенной демократизации художественных вкусов и, естественно, не могли не оказать влияние и на архитектуру.
По отдельным статьям об архитектуре в литературно-художественных журналах можно составить достаточно полное представление о художественных интересах «просвещенного читателя» конца 1830 — начала 1840-х годов и о тех вполне определенных новых эстетических требованиях, которые в эти годы уже начали предъявляться к архитектуре. Постепенное формирование этих требований наглядно отражает процесс становления нового стилевого направления в архитектуре, направления, уже в те годы получившего общее наименование «эклектическое» 5. Это касается не только эстетических взглядов и высказываний тех первых русских теоретиков архитектуры середины XIX в., которые именно в эти годы начали выдвигаться из среды зодчих 6, но и более общих явлений, говоривших о формировании широких художественных вкусов. Из достаточно отрывочных и не всегда последовательных высказываний современников постепенно становится ясным, что именно они вкладывали в понятие «эклектика», как оценивали сложные явления, происходившие в современном им зодчестве, и какие надежды связывали с его дальнейшим развитием.
Известно, что историческая оценка объективных качеств текущего художественного процесса — явление, вообще чрезвычайно редкое. В этом отношении современники первых шагов эклектики ни в чем не отличались от предыдущих и последующих поколений, радостно приветствуя новые веяния в архитектуре и не видя в ней и следа эстетической ущербности. Но важно подчеркнуть, что это был не просто восторг ослепленных новизной очевидцев. С самого начала они удивительно трезво оценивали сущность нового направления как конгломерата стилей. Однако, в отличие от нашего теперешнего понимания, это явление «многостилья», вторичности, подражательности вовсе не рассматривалось ими как отрицательное. Более того, именно эта гибкость, подвижность, мобильность форм эклектики в их глазах и была тем новым завоеванием архитектуры, которое противопоставлялось устойчивым канонам красоты, еще недавно так победно демонстрировавшимся русским классицизмом.
При этом и самое слово «эклектика», вошедшее в обиход в 1830-е годы одновременно с новым архитектурным направлением, тогда имело совсем другой, положительный смысл, лишенный того пренебрежительного оттенка, который оно приобрело много позднее. Вернее, оно расшифровывалось почти так же, как и в наше время, но оценивалось прямо противоположным образом.
«...Было время, и весьма недавно,— писал в 1837 г. Нестор Кукольник,— когда стремление к идеальному было господствующим не только в живописи, но и везде; естественно, крайности должны вести к равновесию и должен наступить период эклектический» 7.
«Наш век эклектический,— утверждал он в другой статье,— во всем у него характеристическая черта — умный выбор. Поэзия не стесняется пиитическими уложениями, и единственный закон ея форм — разум — который дал Гётевой Ифигении античную форму, а Гецу фон Берлихенген форму, согласную с средним веком; мы не пойдем за дальнейшими примерами; скажем только, что во всех отраслях науки, искусства и нравов то же направление; и потому ни слова — разнообразие превосходно, очаровательно, но если оно изящно; Парфенон и другие остатки Греческого зодчества; мавританская Алгамра, готические соборы старого и нового стиля; Италианская архитектура Палладия, Сансовино, Брунелески, Банаротти и т. д. Венецианская древняя... Индийская с Византийским своим развитием, все, одним словом, роды зодчества могут быть изящны и заключают каждая немалочисленные тому доказательства: все они взаимно пользуются своими средствами, перемешиваются и производят новые роды. Но эти роды только тогда изящны и оригинальны, когда сохраняют согласие в частях и величие или сладость в целом... Нельзя не заметить, что это эклектическое прекрасное направление видимо только в постройках общественных...» 8
Характеристика эклектики как «умного выбора» здесь совершенно недвусмысленна. Именно «умный выбор» самых разнообразных средств выразительности был провозглашен творческим кредо эклектиков, и если оно не было с самого начала сформулировано достаточно четко самими архитекторами, то содержалось так или иначе в высказываниях самых разных, иногда достаточно далеких от архитектуры людей. Собственно, не что иное, как панегирик эклектизму в архитектуре, призыв к нему являет собой и известная статья Гоголя «Об архитектуре нынешнего времени», написанная в начале 1830-х годов. «Истинный эффект заключен в резкой противоположности; красота никогда не бывает так ярка и видна, как в контрасте,— пишет он.— ...Все зависит от вкуса и от умения расположить. Не мешайте только в одном здании множества разных вкусов и родов архитектуры. Пусть каждое носит в себе что-то целое и самобытное, но пусть противуположность между этими самобытными в отношении их друг к другу будет резка и сильна...
Терпимость нам нужна; без нее ничего не будет для художества. Все роды хороши, когда они хороши в своем роде. Какая бы ни была архитектура: гладкая массивная египетская, огромная ли, пестрая индусов, роскошная ли мавров, вдохновенная ли и мрачная готическая, грациозная ли греческая — все они хороши, когда приспособлены к назначению строения; все они будут величественны, когда только истинно постигнуты» 9.
Эта статья Гоголя — как бы вдохновенный манифест эклектики, хотя самое это слово им нигде не употребляется. Призывая к постижению и претворению форм архитектуры всех времен и народов, к созданию новой прекрасной архитектуры, которой он не видел вокруг себя и не признавал в русском классицизме, Гоголь выражал отношение к зодчеству многих своих современников. При этом интерес к архитектуре людей, казалось бы достаточно далеких от нее и от проблем реального строительства, был необычайно симптоматичен для того времени, когда искренняя вера в предстоящее «возрождение зодчества» была поддержана более общими процессами, совершавшимися в русской художественной и общественной жизни.
Просветительские тенденции, во многом окрашивающие искусство, литературу, театр 1830—1850-х годов, предопределили не только совершенно новое место искусств в общественной жизни, но и новые особенности, отличавшие их восприятие. Наряду с чисто эстетическими качествами в них все более начинает цениться содержательная сторона, та идея, которая воплощалась новыми художественными средствами. Искусство начинает играть особую, жизненно важную роль в сознании людей, будь то живопись или театр, музыка или литература. Свойственное искусству этой эпохи стремление выступить перед зрителем с насущно важными проблемами человеческого бытия в свою очередь придало восприятию искусства характер серьезного жизненного переживания. Это в особенности полно проявилось в тех искусствах, которые были так или иначе связаны с литературным творчеством, с художественным словом, с призывом «глаголом жечь сердца людей». В связи с этим совершенно особое место в иерархии искусств и в социально-общественной и духовной жизни России начинает занимать не только литература, но и театральное искусство.
«В передовых кругах русского общества театру предъявляются все более высокие требования. Театр неожиданно вырастает в серьезную проблему, он становится одним из центров умственной жизни общества. На театр с надеждой устремились взгляды людей, очень далеких от понимания искусства как легкой забавы и только явления эстетического порядка. Они ищут в театре ответа на серьезные и трудные вопросы общественного и духовного значения... При этом большинство из них подчеркнуто заявляет, что в театре их меньше всего интересует так называемая театральность. Они ценят в театральном искусстве не изысканность и изящество художественной формы, но что-то другое, гораздо более важное для них».10
Отмечаемая здесь новая, чрезвычайно важная особенность театра 1830—1860-х годов, как представляется, помогает глубже понять сущность восприятия искусства того времени в самых различных областях художественного творчества. Его различные оттенки, предопределяемые спецификой отдельных видов искусств, не мешают увидеть некую общность мировосприятия, свойственную всей эпохе и во многом предопределившую новое отношение к пластическим искусствам.
Надо сказать, что, хотя сложнейшая художественная атмосфера 1830 — начала 1840-х годов достаточно полно освещена в литературоведческих и несколько менее — искусствоведческих исследованиях, она почти не принималась во внимание в работах, посвященных архитектуре этих лет, которая обычно рассматривалась в большем отрыве от всей художественной жизни. Как-то забывалось о том, что одно из трех «знатнейших художеств» продолжало в глазах современников оставаться таковым и в эти годы, необычайно богатые новыми художественными явлениями.
Между тем несомненно, что и изменения в изобразительном и театральном искусстве, и ожесточенная полемика на страницах литературных альманахов и первых художественных журналов, и поиски новых форм, отличавшие многие произведения поэтов и художников того времени,— все это не могло не найти косвенного отражения в архитектуре, хотя новые стилевые признаки в ней и были очерчены несравненно менее четко. Не прибегая к аналогиям, которые в применении к архитектуре всегда оказываются излишне прямолинейными, можно, однако, утверждать, что поиски новых форм в архитектуре во многом были следствием эстетической борьбы, сопровождавшей развитие нового художественного мировоззрения, чье значение во многом определялось преодолением жестких канонов классицизма, но не исчерпывалось этим, будучи несравненно более широким и всеобъемлющим, вбирающим в себя многие стороны сложнейшего и противоречивого мироощущения новой исторической эпохи.
Речь идет о романтизме, распространение идей которого в первой трети XIX в. так или иначе предопределило характер новых художественных течений в литературе и искусстве в Западной Европе и в России. Оставляя в стороне сложнейшие аспекты изучения романтизма, связанные прежде всего с литературоведческими проблемами, отметим лишь, что в последнее время в специальной литературе его обычно рассматривают не как локальное направление в литературе и искусстве, но как художественное мировоззрение целой эпохи, чье воздействие нередко далеко выходило за рамки собственно искусства. При этом романтизм 1830-х годов все чаще предстает не только как антипод, но и как предтеча реализма XIX в., подготовивший почву для художественных завоеваний последнего.
«Исходным пунктом новой романтической концепции было представление о ведущей роли искусства в «народном развитии», в общественном самосознании эпохи. Отчасти это было связано, как уже говорилось выше, с действительным положением искусства в жизни николаевской России. Но были на то и внутренние причины. Свойственный романтизму взгляд на поэта и художника как на «пророка», связываясь с ярко выраженным просветительским пафосом эпохи, ее философскими и социально-утопическими исканиями, приобретал совершенно определенный смысл. От произведений искусства теперь в первую очередь ждут предначертаний общественного развития, предсказаний духовной эволюции человечества». 11
В какой-то мере романтизм был реакцией на строгую регламентацию художественных средств в классицизме, на подмену индивидуального — общечеловеческим, единичного — типичным. В то же время известно, что, будучи целиком порождением XIX столетия, романтизм был явлением далеко не однозначным, противоречивым, идущим не только от чувства, но и от ума, сочетающим эмоциональность и непосредственность с жестким рационализмом, высокий пафос с едкой иронией и рассудочностью. Трезвый самоанализ, холодный взгляд на себя СО стороны во многом определяли сложное мироощущение романтиков, Самым неожиданным образом преломляясь в искусстве.
Эта видимая двойственность романтизма отнюдь не была свидетельством его неорганичности, скорее она была знамением времени, Отражением сложнейших общественно-исторических процессов и противоречий новой, буржуазной эпохи.
Провозглашая отказ от обязательного подражания античности и от жестких канонов классики, романтизм оставил себе полную творческую свободу в выборе художественных форм и в заимствовании любых из них, наиболее близких к мироощущению романтиков. Такая творческая свобода, как не раз отмечалось в литературоведении, была в большой мере присуща, например, поэзии, и прежде всего Пушкину, одинаково блестяще владевшему самыми различными, иногда откровенно подражательными жанрами, которым он придавал неповторимую индивидуальность.
«В творчестве Пушкина с начала двадцатых годов до середины тридцатых годов разнообразные стили мировой литературы представляли боевой арсенал освоенных поэтом художественных форм, служивших ему прекрасным орудием для реалистического воспроизведения разных эпох и разных сторон действительности... Художественное мышление Пушкина — это мышление литературными стилями, все многообразие которых было доступно поэту. В этом плане пути реалистического освоения действительности в художественном творчестве Пушкина исключительно многообразны: Пушкин творчески использовал стили народной поэзии, стиль летописи, стиль библии, корана. Стили Тредьяковского, Ломоносова, Сумарокова, В. Петрова, Державина, Хвостова; стили Жуковского, Батюшкова, Баратынского, Вяземского, Козлова, Языкова, В. Кюхельбекера, Ден. Давыдова, Дельвига, Гнедича; стили Байрона, Шенье, Горация, Овидия, Водсворта, Шекспира, Мюссе, Беранже, Данте, Петрарки, Хафиза и других писателей мировой литературы служили ему материалом для оригинального творчества. Пушкин доказал способность русского языка творчески освоить и самостоятельно, оригинально отразить всю накопленную многими веками словесно-художественную культуру Запада и Востока»12. Подобное стремление к многообразию форм выражения, к их крайней индивидуализации, к отрицанию каких-либо устойчивых канонов и разнообразию художественных впечатлений не могло не сказаться во всех областях искусства той эпохи.
Естественно, что сводить всю сложнейшую картину художественной жизни 1830—1840-х годов с ее множеством эстетико-философских течений лишь к борьбе классицизма и романтизма было бы необычайным упрощением действительного положения вещей. Скорее следует говорить о постоянных поисках нового художественного языка, которые далеко не всегда поддавались какой-либо точной классификации уже в представлениях современников, хотя шли в основном под знаком романтизма в самом широком его понимании.
Именно об этом писал еще в 1825 г. К. Рылеев в статье, ставшей его творческим завещанием: «Спор о романтической и классической поэзиях давно уже занимает всю просвещенную Европу, а недавно начался и у нас. Жар, с которым спор сей продолжается, не только со временем не простывает, но еще более и более увеличивается. Несмотря, однако, на это, ни романтики, ни классики не могут похвалиться победою. Причины сему, мне кажется, те, что обе стороны спорят, как обыкновенно случается, более о словах, нежели о существе предмета, придают слишком много важности формам и что на самом деле нет ни классической, ни романтической поэзии, а была, есть и будет одна истинная самобытная поэзия, которой правила всегда были и будут одни и те же» 13.
Таким образом, речь шла не о замене одной достаточно жесткой эстетической системы другой системой, а скорее о полном раскрепощении от каких-либо канонов, о свободе художественной формы, если не о свободе творчества. Если эти поиски шли в основном под знаменем романтизма, то лишь потому, что понимание сущности романтизма его современниками отличалось достаточной гибкостью и широтой, позволяющей прилагать это понятие к самым различным явлениям художественной действительности.
«Уже современники с трудом разбирались в противоречивых позициях «классиков» и «романтиков»,— писал Ю. Тынянов,— и подходить к ним с ключом тех или иных определений классицизма и романтизма не приходится. Приходится различать теоретические высказывания писателей той поры о романтизме (здесь обычно авторы имеют в виду иностранную литературу) и практические там, где им приходилось считаться с романтизмом в его домашнем, русском применении. Кроме того, необходимо принять во внимание и самую семантическую инерцию терминов: романтизмом называлось по преимуществу «новое», классицизмом — «старое».14
С этим утверждением Тынянова легко согласиться, если рассматривать романтизм не как локальное художественное течение, а как определенное миросозерцание эпохи, включающее в себя не только сумму более конкретных признаков стиля, но и те неразрешимые противоречия, которые не укладывались в рамки определенных стилевых схем. Естественно, что борьба «старого» и «нового» включила в себя явления несравненно более широкие, нежели только эстетические концепции классицизма и романтизма. Но эта борьба оказалась бы невозможной без «романтического движения, с его антинормативностью и антисистемностью, возведенными в принцип» 15.
Присущие романтизму идеи о преобразующей миссии искусства, о ого важной роли в создании благоприятной жизненной среды, его просветительский пафос и подчеркнутый индивидуализм — все это не могло не оказать воздействия на зарождение и развитие новых архитектурных концепций.
Может быть, потому, что всякая попытка распространения этих понятий на архитектуру приобретает достаточно расплывчатую и неопределенную форму, у нас до последнего времени не принято было говорить о воздействии идей романтизма на формирование архитектуры и связывать с ними стилеобразующие процессы, хотя такой взгляд стал общепринятым в работах западноевропейских исследователей. 16
Даже в последних по времени трудах о романтизме XIX в. архитектура полностью исключена из круга рассматриваемых проблем, хотя там неоднократно встречаются ссылки на влияние романтизма не только на разные виды искусств, но и на науку тех лет, и в частности па естествознание 17. То, что романтизм как художественное течение долгое время не упоминался в специальных трудах по истории архитектуры, отчасти можно объяснить особой спецификой законов развития архитектуры, как искусства, наиболее тесно связанного с техникой и экономикой, что иногда заставляет исключать ее анализ из сферы более общих искусствоведческих проблем. С другой стороны, это, видимо, объясняется и традиционной односторонней оценкой художественных качеств эклектической архитектуры, и в частности зодчества того раннего этапа, который следовал непосредственно за классицизмом и был связан в своих истоках с романтическим мировоззрением 1830-х годов. Тем самым архитектура исключалась из поступательного процесса развития русского искусства или даже противопоставлялась ему.
Между тем если в наше время применение этого понятия по отношению к архитектуре еще недавно представлялось спорным, то в момент зарождения новых течений в архитектуре оно казалось вполне закономерным.
Причина этого была, по-видимому, в том, что новая архитектура настолько органично влилась в русло всей художественной культуры 1830-х годов, так или иначе связанной с идеями романтизма, и была столь явно поддержана аналогичными явлениями в других искусствах, что те трудно уловимые, ускользающие, часто противоречивые признаки романтизма, которые можно было проследить в самых разных областях искусства, обнаруживались и в зодчестве.
Вот что писал, например, обозреватель «Художественной газеты», имея в виду, по-видимому, не только французскую архитектуру: «Франция, которую справедливо, но преувеличенно, считают страною непрерывного умственного движения,— представляет странные явления крайностей... В художествах, особенно в архитектуре, у Французов доселе идет борьба между классицизмом и романтизмом. Классики заключают прекрасное в тесные пределы непреложных правил: для них уже все построено Греками и Римлянами; искусству остается только применить древние планы к данной местности...
Таким образом, изящное искусство превращается в механическое ремесло, которого вся сила состоит в применении. Классикам нет дела до того, что изящное в природе рассеяно в разнообразных видах и нигде не представляется в неподвижных формах; они непременно хотят остановить прекрасное на одной черте, отрицая его полет и как бы не веруя в совершенствование искусства... Какое-то непростительное предубеждение заставляет их попирать ногами самые простые законы здравого смысла; классики никак не хотят подчинить форму требованиям времени и места» 18.
Подвижность, изменчивость «изящных» форм, их разнообразие и динамичность их сочетаний, их зависимость от места и времени и, наконец, полная свобода в выборе вдохновляющих художника первоисточников — все эти приметы романтизма в полной мере могли быть отнесены и к новой русской архитектуре.
Естественно, что особая специфика архитектуры как искусства, ее большая зависимость от утилитарных задач и материальных условий, ее тесная связь с техникой, хотя бы и на уровне первой половины XIX в., наконец, ее экономическая зависимость от заказчика приводили к подчас неузнаваемой трансформации романтических идей, их более внешнему, иногда даже поверхностному выражению. Естественно также, что явный перелом в архитектурных вкусах не сводился лишь к одному воздействию идей романтизма. Этому способствовал целый ряд исторически объективных, сложнейших причин. Но несомненно и то, что постоянная полемика классицизма и романтизма, которая в течение почти трех десятилетий достаточно явно и ощутимо велась в литературе и искусстве, не могла не влиять на мироощущение современников, постепенно формируя новые эстетические представления. Русский классицизм, столь близкий и понятный не только поэтам и зодчим, но и рядовым обитателям ампирных особняков, во многом определявший эмоциональный строй их жизни, постепенно перестал быть естественным повседневным компонентом жизни человека на рубеже 1830-х годов. Можно сказать, что в конечном счете классицизм был оттеснен уже не только романтизмом, но и самим ходом развития всей русской общественной жизни. При этом особая напряженность политической атмосферы России того времени привела к тому, что сложнейший борьба идей получила отражение не только в литературе и изобразительном искусстве, но и в архитектуре, предопределив не только множественность отдельных течений, но иногда и их диаметрально противоположную идейную сущность, воплощения которой нередко превышали специфические художественные возможности архитектуры.
При этом борьба за окончательное поражение эстетики классицизма, раскрепощение от его канонических оков рассматривалась отнюдь не только как чисто эстетическое движение, и насущная необходимость смены стиля не оставляла сомнений для его современников, отождествлявших с поздним классицизмом те идеи строжайшей регламентации, которые были неотделимы в их сознании от политического гнета. Провозглашаемая романтизмом свобода художественных средств, отказ от жестких классических канонов давали иллюзию творческой свободы художников, большее приближение к реальной жизни позволяло верить в преобразующую роль искусства. До восстания декабристов теоретические споры о классицизме и романтизме носили скорее, если можно так выразиться, более умозрительный, отвлеченный характер, то после поражения декабризма, в условиях николаевской России сущность этих споров должна была значительно измениться. Утверждение идей романтизма получило теперь более жизненный, насущный, даже «прикладной» оттенок, в романтическом мировоззрении стали искать прибежища самые разные слон тогдашнего общества, каждый раз понимая и трактуя его по-своему.
Этому способствовало и то, что некоторые современники декабристов еще сохраняли надежду на смягчение политической атмосферы с помощью благотворного воздействия искусства. Эти иллюзии искусно поддерживались и использовались самим царем, цинично и умно направлявшим их в нужное ему русло. Не случайно он выступил одним из зачинателей борьбы с классицизмом 19, быстро подхватив новые романтические веяния в архитектуре. Не случайно с помощью нового придворного строительства все больше поддерживалась лицемерная версия о сентиментальном царе-семьянине, который стремился предстать «романтическим мечтателем, увлеченным мыслями о далеком рыцарском средневековье или о менее далекой эпохе грациозно-шаловливого рококо» 20.
Не только дворянская интеллигенция, сочувствующая декабристам или искавшая забвения во внутреннем духовном мире, в отрешении от жестокой действительности, не только художники и поэты, так или иначе протестующие своим творчеством против насаждения реакционных идей в академическом, официальном искусстве, но и высшие придворные круги, отдающие дань моде,— все они в какой-то мере черпали свои художественные воззрения прежде всего в романтических идеях, что еще раз свидетельствовало о сложности и неоднородности последних. Это нашло достаточно наглядное выражение и в архитектуре, отозвавшейся на проникновение новых идей с некоторым опозданием, когда многолетняя полемика между классиками и романтиками уже была на исходе и русский классицизм сдавал свои позиции, все более тяготея к академизму.
Общее движение европейской архитектуры от классицизма к новым стилистическим направлениям, по-разному окрашенное в отдельных странах в зависимости от конкретной исторической ситуации, в России 1830—1840-х годов приобрело особую общественную значимость, знаменуя собой видимый отказ от недавнего этапа русской истории, связанного для многих с трагическими воспоминаниями. Прежние архитектурные идеалы стали неприменимы к новым условиям существования человека 1830-х годов, к тем изменившимся требованиям к жизненной среде, которые были обусловлены коренными изменениями не только в эстетике, но и в психологии людей. Не последнюю роль здесь играли и тенденции к уходу в частную жизнь, к замкнутости, к изоляции, к отказу от общественной жизни, которые были обусловлены той атмосферой политической реакции, которая воцарилась после поражения декабристов.
Немаловажную роль при этом играла и постепенная трансформация идей самого классицизма, где гуманистические идеи эпохи Просвещения все более явно стали вытесняться теми официальными идеями государственности, которые в исторических условиях России 1830-х годов в конечном счете воплощали собой торжество самодержавия. Если Триумфальная арка Главного штаба, воздвигнутая вскоре после величайшей победы русского народа в Отечественной войне 1812 г. (1819— 1828 гг.), еще соответствовала по характеру архитектуры общенародным настроениям подъема и воодушевления, то возведенная тем же Росси арочная композиция зданий Сената и Синода (1828—1832 гг.) на той площади, где только что разыгралась величайшая трагедия декабризма, естественно, должна была восприниматься современниками совершенно иными глазами. Идеи, воодушевлявшие мастеров архитектуры еще в первой четверти XIX в., утратили свою жизнеспособность, а это не могло не отразиться и на характере их творчества, принявшего парадный, холодный оттенок. Триумфальные архитектурные образы классицизма перестали отвечать тем общепатриотическим настроениям, которым был нанесен сильнейший урон после подавления Декабрьского восстания.
Триумф русского народа был как бы подменен триумфом взявшего верх царизма, продолжавшего демонстрировать свою силу и власть. Величественные архитектурные образы стали вызывать в сознании современников совершенно иные, чем прежде, ассоциации.
Это внутреннее несоответствие должно было необычайно остро ощущаться и современниками, и самими архитекторами на фоне растущей политической реакции. Не только казенный, как тогда выражались «казарменный», облик общественных зданий позднего классицизма, не только внешнее однообразие четырех- и шестиколонных портиков, не только жесткая заданность планировочных схем, но и эмоциональная «выхолощенность» архитектурного образа стали причиной явного протеста против эстетики позднего классицизма в России. При этом расшатывание жанров и норм классицизма, наиболее сильных даже не в русской литературе и изобразительном искусстве, а, пожалуй, именно в русской архитектуре в силу необычайной цельности ее эстетических канонов, велось не столько определенными зодчими-романтиками, сколько всей системой художественного мировоззрения романтизма, включая сюда литературные и художественные течения, на первый взгляд как будто не имеющие прямого отношения к архитектуре.
Художественное миросозерцание романтизма создавало своего рода самостоятельную шкалу ценностей, свою иерархию искусств, в которых архитектура неуклонно перемещалась на какое-то иное место, коренным образом отличающееся от того традиционного места, которое она занимала в эстетической системе классицизма. Последнее обстоятельство кажется чрезвычайно важным и симптоматичным.
В архитектуре начали ценить прежде всего не только художественную самоценность, а ее роль в создании благоприятной жизненной среды, соответствующей тем новым представлениям о прекрасном, которые складывались в романтической литературе. Теперь именно литература заняла ведущее место в системе романтического искусства, что определялось как спецификой ее художественного языка, наиболее полно соответствующего романтическим концепциям, так и теми изменениями, которые произошли в искусстве под воздействием идей романтизма и имели решающее значение для его дальнейшего развития. Судьба русского искусства XIX в. во многом была предрешена этими переменами, не просто утверждавшими примат литературы, но и сделавшими ее художественный язык со всей его спецификой как бы эталоном, влияющим на восприятие других видов искусства, а подчас и диктующим им свои особые законы. При этом трансформация идей романтизма, так или иначе окрашивавших определенные течения русского искусства, привела к тому, что они получили в каждом виде искусства, будь то музыка, живопись, архитектура, особое преломление.
Именно эти особенности отдельных искусств, обнажаемые спецификой их художественного языка, обусловливали новое место каждого из них в той системе искусств, которая сложилась под воздействием романтического миросозерцания и развивалась при преимущественном положении литературы, под ее непосредственным непреходящим влиянием даже тогда, когда основные позиции в русском искусстве были заняты реализмом. 21
Естественно, что было бы натяжкой привлекать для анализа архитектуры прямые аналогии из русской литературы тех лет. Но в какой-то мере это оправдано потому, что именно литература, как наиболее «влиятельный» в те годы вид искусства, не только способствовала созданию атмосферы, благоприятной для приятия архитектуры эклектики, но и во многом предопределила специфику ее образного языка. Эклектика в каком-то смысле стала воплощением «литературности» в архитектуре, что сказывалось в ассоциативности, «повествовательности» архитектурных образов. При этом свойственная эпохе «умственность», рассудочность эклектики, бывшая источником сознательного многостилья, была во многом родственна тем романтическим течениям, которые господствовали в искусстве и литературе тех лет и иногда были там очерчены несравненно более ярко и четко, чем в архитектуре. Конечно, эта связь была достаточно опосредованной и не всегда очевидной, но сравнительный анализ произведений этих лет, знакомство с кругом работ ведущих зодчих и с высказываниями их современников убеждает нас в том, что воздействие идей романтизма на формирование эклектической архитектуры было решающим и несомненным.
И хотя на стилеобразование в архитектуре несомненно влияло множество самых разнообразных социальных, экономических, технических и материальных причин, именно романтизм дал первый толчок в направлении изменений художественного мышления зодчих, определив характер их творческих поисков и новые эстетические критерии. Этот перелом, происшедший в течение 1830-х годов, был органически связан не только с общими тенденциями в русском искусстве и культуре, но и с историческими условиями в России того времени, а также с искусством, культурой и архитектурой западноевропейских стран.
Становление новых эстетических взглядов в эту переходную эпоху происходило в тесной связи с переменами в мироощущении в целом, которое было пронизано сознанием историчности текущего процесса. Новое отношение к истории, бывшее результатом как определенного этапа в развитии науки, так и глубоких перемен в миросозерцании, связанных с романтизмом, наложило явственный отпечаток на восприятие искусства и жизненной среды. Мироощущение формировалось во все более тесной связи с окружающей архитектурной средой, в свою очередь получившей историческое значение. Она должна была все более активно втягивать человека в сферу своего притяжения, воздействовать на него, взаимодействовать с ним, позволяя ему полнее ощутить свою связь с окружающим миром, свою причастность к истории — не только к истории современности, но и к истории всего человечества.
«Понятия современности и историзма рождаются в литературе одновременно,— пишет Г. Гачев в своей книге «Жизнь художественного сознания»,— понять современность — значит понять ее своеобразие, отличие от других эпох, то есть просветить ее перспективой исторического движения... Не случайно само обращение к прошлому (или к будущему) впервые ощущается как уход от современности именно в романтизме. Следовательно, родилось само чувство современности, раз ощущается уход от нее» 22.
В применении к архитектуре эти слова остаются справедливыми. Романтизм впервые пробудил мысль об особенностях современного зодчества и об его соотношении с наследием прошлого, привел к более объективной оценке каждого исторического этапа, в том числе и античности, привлек внимание к средневековью, восстановил в сознании людей это выпавшее недостающее звено в общей цепи исторического процесса. Этот новый взгляд на историю, и в частности на историю архитектуры, как на единый закономерный процесс развития и осознание самих себя как непременных участников исторического процесса, предопределили особенности нового мироощущения XIX в. Не случайно, по-видимому, в последние годы и Пушкин впервые выступает как серьезный и глубокий историк, во многом опережающий свое время в понимании, оценке решающих событий прошлого и настоящего.
Новое ощущение истории прекрасно выразил позже, в 1868 г., В. Ключевский, когда писал: «Самая строгая наука не обязывает быть равнодушным к интересам настоящего. Если история способна научить чему-нибудь, то прежде всего сознанию себя самих, ясному взгляду па настоящее. В этом отношении интересы текущей жизни, уроки ее, могут служить надежной руководящей нитью, готовым указанием на то, что наиболее требует разъяснения в своих началах и развитии, а равно и готовой поверкой этого развития». 23
Взгляд на историю как на единый поступательный процесс, где ни один из этапов не может быть произвольно изъят или, напротив, особо выделен, где прошлое неотъемлемо от настоящего и будущего и тем самым всегда находится в развитии, коренным образом изменил отношение к историческому наследию, породив стремление создать иллюзию эффекта присутствия в разные эпохи всемирной истории, творя своего рода театрализованную архитектурную среду, до мельчайших деталей воссоздающую определенную эпоху.
«Я думал, что весьма не мешало бы иметь в городе одну такую улицу, которая бы вмещала в себе архитектурную летопись,— писал и 1830-х годах Гоголь.—Чтобы начиналась она тяжелыми, мрачными воротами,— прошедши которые зритель видел бы с двух сторон возвышающиеся величественные здания первобытного дикого вкуса, общего первоначальным народам. Потом постепенно изменение ее в разные виды: высокое преображение в колоссальную, исполненную простоты, египетскую, потом в красавицу греческую, потом в сладострастную александрийскую и византийскую с плоскими куполами, потом в римскую с арками в несколько рядов, далее вновь нисходящую к диким временам и вдруг потом поднявшеюся до необыкновенной роскоши аравийскою, потом дикою готическою, потом готико-арабскую, потом чисто готическою, венцом искусства, дышащею в Кёльнском соборе, потом страшным смешением архитектур, происшедшим от обращения к византийской, потом древнею греческою в новом костюме и, наконец, чтобы вся улица оканчивалась воротами, заключившими бы в себе стихии нового вкуса. Эта улица сделалась бы тогда в некотором отношении историею развития вкуса, и кто ленив перевертывать толстые томы, тому бы стоило только пройти по ней, чтобы узнать все» 24.
Можно сказать, что историзм в архитектуре начался с первых попыток определения места современной архитектуры в общем процессе развития мирового зодчества, с сознательного стремления к объективному научному изучению и оценке отдельных его этапов вплоть до современности.
«В истории архитектуры, всякий день пополняющейся, все становится занимательным,— писал обозреватель в «Художественной газете» в 1838 г.,— посвятившие себя ученым разысканиям по этой части поняли, что уже наступило время привести в порядок и добросовестно исследовать бесчисленные труды, изданные в разные времена, о постепенном развитии по частям этого обширного искусства с самого начала оного до наших дней» 25. Эти слова прекрасно выражают новое отношение к истории.
Увлечение историческими стилями в архитектуре во многом оправдывалось и обосновывалось желанием приобщить современного человека к художественным сокровищам самых разных эпох. Эти «путешествия в историю», их познавательная ценность постепенно становятся неотделимыми от художественного восприятия архитектуры. При этом творческие приемы и принципы претворения наследия претерпевают коренные изменения на протяжении всего лишь одного десятилетия.
Известно, что и в период классицизма заимствование не только готических, но даже китайских декоративных форм в архитектуре встречалось достаточно часто как своего рода «отдохновение» для глаз, как «каприз» зодчего. Но эти отступления были целиком подчинены строгим закономерностям внутренне чуждой им классики. Этим сдерживались, тормозились те первые проявления романтических тенденций в русском зодчестве, которые зародились еще в недрах классицизма. Но именно они подготовили более органичный переход к новым художественным веяниям в архитектуре, хотя они также наиболее наглядно обнаруживают те принципиальные различия, ту формальную разницу, которая существовала между классицизмом и следующим этапом развития русской архитектуры. С начала 1830-х годов второстепенные для классицизма, подспудные, подавляющиеся стилистические тенденции, неожиданно проявлявшиеся в творчестве самых различных зодчих классицизма, стремительно выходят на первый план, сметая все устоявшиеся канонические преграды и оттесняя те классические образцы, которые столь долгое время были основополагающими.
«Многостильная», «многоязычная» архитектура стала воплощением нового отношения к истории, архитектурные формы впервые приобретали не только художественное, но и познавательное значение. Современный человек стал рассматриваться как прямой наследник всех завоеваний мирового зодчества, как его единственный «душеприказчик».
При этом наибольшая стилистическая близость к оригиналу, иллюзорная точность заимствования, относящаяся не только к области форм, но и к художественному образу в целом, стали обязательным условием создания эстетически полноценного произведения, а отнюдь не его недостатком. Так и в отдельных образцах романтической поэзии виртуозность в претворении первоисточников и тонкость их имитации свидетельствовали не о творческой несамостоятельности автора, а напротив, об его абсолютном художественном вкусе и эстетическом чутье, позволившим уловить и передать тончайшие оттенки в восточной поэзии, в средневековых балладах, в народных песнях и в творениях античных поэтов.
По существу не чем иным, как проникновением этих взглядов в архитектуру, были и первые попытки прямых стилистических заимствований в практике русских зодчих. При этом, в отличие от классицизма, здесь имело место не претворение закономерностей стиля в целом, а подражание отдельным конкретным оригиналам, наиболее типичным для того или иного стиля. Насыщенность характерными внешними приметами прообраза должна была способствовать художественной выразительности нового произведения, словно стремившегося превзойти подлинные образцы.
Индивидуализации художественных вкусов и представлений, нашедшей выражение и в первых сооружениях нового направления, немало способствовало расширение круга художественных ассоциаций, часто имевших явную литературную окраску.
«Женский монастырь в палестинском вкусе», «церковь в готическом вкусе», «загородный дом в роде итальянской виллы», «колокольня в византийском вкусе», «дом загородный в английском вкусе», «казармы в римском вкусе» — эти ученические программы, заданные М. Д. Быковским в Кремлевском архитектурном училище в 1838—1839 гг.26, необычайно ярко отражают появившуюся в те годы иллюстративность архитектурных тем, литературность архитектурных вкусов. Унаследованная от классицизма ассоциативность архитектурного образа стала принимать бесконечное множество воплощений, вызывающих в памяти зрителя те или иные романтические исторические ассоциации.
«Альгамра», «Дворец дожа в Венеции», «Реймсский собор», «Колизей», «Памятник Конфуцию», «Мечеть Ахмета в Константинополе», «Храм святой Софии», «Пальмская биржа на острове Майорке» — С этими памятниками архитектуры не случайно начала знакомить читателей «Художественная газета» в 1838 г. Расширение круга архитектурных сведений стало обязательным условием правильного восприятия зодчества для человека этого времени.
И многочисленные журнальные критические статьи, и путевые заметки путешественников по Западной Европе, и гравированные изображения, и первые специальные прикладные руководства по архитектуре — все это должно было способствовать расширению круга архитектурных представлений и художественных знаний у рядового «просвещенного читателя», улучшить его вкусы и приобщить его к тому, что считалось новым словом, последним достижением в современной архитектуре.
«Пусть частные люди строятся по своему вкусу: этот вкус со временем приобретет именно то, чего часто ему недостает, небольшой, но значительный эпитет: хороший; а когда у нас в частной архитектуре появится хороший вкус, тогда и Газета обратит на его подвиги ближайшее внимание, от чего она и не отклонялась во всех тех случаях, где могла говорить с похвалою. Газете предлежат несравненно важнейшие труды: к концу года и вовсе продолжение будущего она постарается говорить о работах Исаакиевского собора и Зимнего дворца, произведениях монументальных — проявлениях необыкновенных успехов просвещения в России» 27,— писал обозреватель в той же «Художественной газете» в 1838 г.
Подобное рассмотрение достижений архитектуры как непосредственного результата «успехов просвещения в России» было также необычайно характерно для этого времени, когда историческим и точным наукам стало придаваться все большее значение. Впервые начавшееся в эти годы научное изучение мирового архитектурного наследия уже давало первые плоды. Кругозор «любителей искусства», художников и архитекторов необычайно расширился по сравнению с предыдущими десятилетиями, когда предпринимались лишь первые попытки по изучению отдельных памятников зодчества.
При этом эрудированность ученого впервые стала неотделимой от труда зодчего. Не случайно так ценились в России образцы нового направления, которые были созданы немецкими архитекторами, сделавшими в эти годы большие успехи в изучении архитектурного наследия, и в частности античности. Но и античность теперь стала толковаться совершенно по-новому, воспринимаясь в ряду других архитектурных эпох лишь как один из многочисленных источников для заимствований архитектурных форм. Обращение к античному зодчеству было как бы продиктовано желанием вернуться к самым истокам античности, минуя позднейшие воплощения классики в эпоху Ренессанса, Барокко и Классицизма. По существу, ведь и протест против позднего классицизма был обращен не против античности как таковой, а против тех жестких канонов, которые были выработаны эстетикой классицизма в архитектуре.
Именно на примере отношения к античности становится особенно очевидной глубочайшая принципиальная разница, отличавшая произведения классицизма, и в том числе русского классицизма первой трети XIX в., от сменивших их на рубеже 1840-х годов произведений немецких и русских архитекторов на античные темы. О том, как далеки были эти новые произведения от недавнего классицизма, можно судить не только по ним самим и по их изображениям, но еще более по их описаниям, по тем акцентам, которые ставятся современниками, по тому, как и чем они восхищаются в новых, прекрасных произведениях современной им архитектуры. Античности как бы стремились вернуть ее первоначальную нетронутость, увидев ее не сквозь привычную призму эстетики классицизма, а свежими глазами, заимствуя у нее совершенно иные, чем прежде, конкретные образцы. Если классицизм прежде всего исходил из нескольких обобщенных типов античного зодчества 28, создавая на эту тему композиции самого различного внутреннего содержания, то теперь число античных первоисточников неизмеримо расширилось, давая основание для бесчисленных подражаний. При этом заимствование отдельных форм не считалось «плагиатом» и вторичность архитектурного образа рассматривалась как достоинство. Это не значит, естественно, что поощрялись только буквальные копии с памятников разных эпох. Напротив, как никогда стала цениться творческая фантазия зодчего, его умение из определенных форм создавать бесконечные варианты еще небывалых сочетаний, оригинальных композиций, находя все новые и новые источники декоративных мотивов, трансформированных в соответствии с новыми задачами. Это действенное отношение к архитектурному наследию было одной из характернейших черт в творчестве архитектора-эклектика, сознательно демонстрирующего декоративные возможности старых форм в связи с новыми масштабами и новой структурой современных зданий, создавая таким образом иллюзию приобщения к успехам мирового зодчества.
«Читая народные летописи, мы переносимся в давно минувший век и, сильно пораженные событиями прошлой жизни, не довольствуемся одним созерцанием ея разоблаченных перед нами явлений; мы требуем участия, жаждем действия; последнее может быть только посредственное; гений минувшего подает руку фантазии; мы вступаем с нею в союз и создаем эпопею, историю, драму. Таков художник на развалинах древности! Неподкупные свидетели ея протекшей славы, оне красноречивее письмян! Зодчий, тронутый до глубины души гармонией размеров, красотой и величием здания, созданного им в воображении, горит желанием предать другим свои сладкие впечатления и вверяет бумаге любимое дитя свое» 29 — эти слова, посвященные академическому проекту реставрации римских форумов, созданному архитектором Никитиным, необычайно точно характеризуют творческий процесс зодчего-эклектика. По существу, они могут быть отнесены ко всем проектам этих лет, а не только к реставрациям, которые в то время принципиально почти ничем не отличались от них.
«Реставрация римских форумов есть истинное воссоздание архитектурных чудес вечного града, произведение в высочайшей степени художественное, по духу и по форме. Зодчий-поэт и зодчий-археолог встретились в лице г. Никитина и под влиянием благодетельных обстоятельств явили образец искусства, в своем роде единственный и превосходный» 30 — такая характеристика вполне применима к любому проекту и сооружению начала 1840-х годов, в их понимании современниками. «Зодчий-поэт и зодчий-археолог» должны были сочетаться в лице современного архитектора, развитие просвещения приравнивалось к развитию искусства, стоявшего в прямой зависимости от успехов науки.
Не случайно именно в эти годы очень распространены были грандиозные проекты посылаемых в Италию и Грецию пенсионеров-архитекторов Академии художеств — проекты, вполне утопические по характеру и имевшие очень мало общего с подлинной реставрацией, но дававшие простор разнообразным вариациям на античные темы, основанным на успехах археологической науки. Этим занимались и зрелые зодчие. В той же «Художественной газете» в 1841 г. читателю сообщалось, что берлинский архитектор Ф. Шинкель «недавно совершил... труд, замечательный по смелости изобретения и по совершенно удовлетворительному разрешению заключавшихся в нем трудных и сложных положений. А именно: он составил проект застроения пространства, отделяющего от окружающего здания на Акрополисе афинском». 31
Никого не смущало, что эта новая «застройка» находилась в непосредственной близости от величайших шедевров мирового зодчества —Парфенона и Эрехтейона — их художественное равноправие предполагалось само собой разумеющимся при соблюдении необходимой точности в подражании оригиналам.
«Достойным представителем греческого стиля в новейшее время является берлинский профессор архитектуры Шинкель; некоторые его произведения можно поставить наряду с лучшими зданиями древней Греции» 32 — такая оценка также представлялась совершенно правомерной русским современникам немецкого зодчего, хотя не все разделяли это пристрастие к «археологичности».
«Нельзя не согласиться в том, что археология имела вредное влияние на развитие архитектуры как художества,— писал, например, А. Красовский, один из самых глубоких и трезвых теоретиков архитектуры середины XIX в. —Бедность творчества скрылась под маскою археологической учености. Чем менее творчества и чем более мелочного знания древностей проявлял архитектор в своем произведении, тем больше превозносили его археологи. Кто рабски копировал, о том говорили, что он строил в чисто древнем вкусе. Первоначальные итальянские архитекторы подражали формам древних только в отдельных частях зданий; археологи, напротив, старались втеснить целые строения в формы древних построек. Открытые, измеренные и срисованные греческие древности дали архитекторам-археологам новый образец для подражания, то есть греческое искусство. Формы этого искусства, более изящные, чем римские, и не столь избитые повседневным употреблением, несколько оживили и обновили современное нам искусство» 33.
Если Шинкель в своем творчестве не допускал буквальных заимствований, еще во многом тяготея к эстетике классицизма, то в творчестве его последователей «археологичность» становилась определяющим качеством. «Архитектура Валгаллы напоминает собою Парфенон Афинский,— говорилось о сооружении Лео Кленце, построенном близ Регенсбурга в 1830—1842 гг.,— здание Валгаллы, замечательное само по себе, как прекрасный памятник современной архитектуры, может служить сильным доказательством тому, что европейские художества быстро движутся вперед на поприще их развития» 34. Типичное для романтизма стремление к просветительской роли искусства, имеющего не только эстетическое, но и познавательное значение, в особенности проявляется в этих ссылках на конкретные античные образцы, как бы возрожденные к жизни волей современных мастеров. Романтизированный образ античного зодчества оказывается при этом качественно отличным от архитектурных образцов классицизма.
Хотя в русской архитектуре эти новые тенденции проявились в несколько сглаженной, приглушенной форме, качественный перелом все же был достаточно нагляден и ощутим. Он сказался и во внешнем облике монументальных общественных зданий, и в новой структуре жилья, и в тех изменениях, которые наметились в понимании пространства.
Нельзя сказать, однако, что эти тенденции сразу же получили широкое распространение. Смена стиля, даже убыстряемая более мобильной и гибкой модой, сказалась далеко не во всем и не сразу. Бытовой уклад, внешне долгие годы определявшийся эстетическими нормами классицизма, не был окончательно изжит еще в течение нескольких десятилетий. Слишком сильна была дворянская культура, взаимосвязанная с эстетикой классицизма, чтобы его реминисценции сразу могли быть преодолены в архитектуре усадеб и загородных дворцов, а в особенности в интерьерах загородных домов и городских особняков. Не случайно в специфических условиях России того времени, где до середины XIX в. воздействие буржуазных вкусов еще не имело решающего значения, новые черты архитектуры и связанного с ней бытового уклада, основанного уже на совершенно иных закономерностях, нежели эстетические нормы классицизма, раньше всего сказались в придворном строительстве. Дольше сохранились те черты классицизма, в особенности в провинциальной и усадебной архитектуре, которые были в той или иной мере связаны с сентиментализмом XVIII в. и свидетельствовали о стремлении к идилличности быта, неся в себе черты романтизма и личных вкусов и пристрастий владельца дома. В западноевропейской архитектуре эти черты были выражены в более определенной форме, что дает основание некоторым западноевропейским исследователям связывать истоки романтизма в архитектуре с XVIII в. В русском зодчестве романтический строй многих загородных и парковых сооружений XVIII столетия — храмиков-ротонд, искусственных руин и мостиков-виадуков,— даже целиком выдержанных в классических формах, казалось бы, также дает материал для размышлений о подобной же преемственности. Однако представляется, что говорить о романтизме в применении к архитектуре русского классицизма можно лишь в очень условной форме, прежде всего потому, что он еще не был поддержан всем художественным мировоззрением эпохи, как это случилось в первой трети XIX в.
Но эти черты были сохранены, подхвачены и развиты новыми направлениями в архитектуре 1830-х годов, что позволило им достаточно органично войти в контекст художественных поисков той эпохи. В их основе лежало все большее внимание к отдельной личности и ее духовным запросам, к жизненному комфорту, к индивидуальным художественным вкусам. Место человека в архитектуре, его взаимоотношения с ней, своего рода «гуманизация» архитектуры и приближение ее к реальным бытовым потребностям и разнообразным вкусам стало определяющим в процессе поисков нового архитектурного языка.
Отчасти эти изменения уже были подготовлены всем ходом развития русского искусства. Классическое убранство интерьеров с его тяготением к строгости и простоте еще в период господства этого стиля стало приобретать некоторые черты, предсказывающие и предрешающие появление иных тенденций. Стремление смягчить парадную строгость отделки интерьеров было одной из характернейших черт русского позднего классицизма. Не только в скромных провинциальных усадьбах, не только в небольших уютных особняках послепожарной Москвы, но и в более строгих зданиях петербургского классицизма постепенно начал формироваться новый характер интерьера 35, где достигалась не только чистота стиля, но и теплота и уют человеческого жилья. Эти предромантические тенденции, зародившиеся еще в недрах классицизма, все более нарушали цельность принятых классицизмом канонов и проявились и в рисунке, и в габаритах мебели, и в приемах ее расстановки, нередко нарушающих принятую в идеале симметрию. Сомасштабность человеку, взаимосвязь с ним, создание особой атмосферы нарядного обитаемого жилища — эти черты отличают немногие дошедшие до нас бытовые интерьеры позднего классицизма, известные более по многочисленным изображениям тех лет. Изменение характера интерьеров; создание в них отдельных, изолированных с помощью мебели пространств, все большее вкрапление мягкой, «безстильной» мебели, разграничение отдельных зон интерьера ширмами и создание в них наибольшего комфорта — все это во многом подготовило формирование интерьеров нового типа, навеянных романтизмом.
Если в обстановке онегинского кабинета Пушкиным были точно найдены приметы модного интерьера 1820-х годов, то в скупом описании другого кабинета — из «Египетских ночей» неожиданно возникает образ интерьера уже совершенно другой стилистической эпохи: «Картины, мраморные статуи, бронзы, дорогие игрушки, расставленные на готических этажерках» 36. Самое перечисление через запятую этих дорогих предметов, как бы наполняющих и переполняющих, даже загромождающих, кабинет модного человека 1830-х годов, рисует образ нового интерьера, по своим эстетическим и эмоциональным качествам во многом отличного от классического. Это могло бы казаться произвольной натяжкой, если бы не некий признак нового, замеченный Пушкиным и введенный им в свое описание: «дорогие игрушки, расставленные на готических этажерках». «Готическая этажерка» — здесь не случайная деталь, а новая примета, очень существенно дополняющая и рисующая образ не только интерьера, но и его владельца, характер его романтических взглядов и модных вкусов 37.
Эти новые стилевые черты сказались даже в более парадных, дворцовых интерьерах, и в частности в облике многих залов Зимнего дворца, заново отделанного и обставленного после пожара 1837 г.
Парадные покои Зимнего дворца, выжженные грандиозным пожаром, восстанавливались необычайно быстро, в течение двух лет, летом и зимою, руками сотен мастеров, по проектам и под руководством ведущих зодчих русского классицизма — В. П. Стасова и А. П. Брюллова. Они должны были показать Европе чудо — возрождение из пепла жилища «всесильного монарха», и это чудо действительно совершилось 38.
Но когда возрожденные интерьеры Зимнего дворца предстали перед первыми посетителями, оказалось, что классицизм навсегда ушел из них и что пространство и отделка большинства зал приобрели иной, хотя иногда почти неуловимый оттенок. Сохранились парадные колоннады, расписные плафоны, скульптурные детали и барельефные фризы. Еще почти не нарушенной осталась чистота стиля в отделанных Стасовым парадных залах. Но чуть чаще встали колонны, чуть изменился и усложнился характер капителей, чуть измельчился рисунок плафонов и стала суше лепка карнизов, чуть больше мелких декоративных деталей появилось в сверкающих хрустальных люстрах и бронзовых канделябрах. Убежденный мастер русского классицизма, В. П. Стасов в целом еще строго следует сложившимся композиционным и декоративным приемам этого стиля в больших парадных залах Зимнего дворца. Из них наиболее каноничен Георгиевский зал, следующий распространенной композиционной схеме парадного двусветного зала, использованной Казаковым в Колонном зале, Кваренги — в зале Смольного института, и впоследствии не раз повторенной в русском зодчестве.
Этот эталон парадного зала здесь еще почти не имеет отступлений от эстетических норм классицизма, разве что в чрезмерно усложненном рисунке люстр и канделябров. В той же мере это касается и восстановленного Стасовым Георгиевского зала Зимнего дворца, где он полностью сохраняет первоначальную кваренгиевскую композиционную схему с парными колоннами, поддерживающими обходящую зал галерею второго яруса. Но при внимательном рассмотрении обнаруживается, что Стасов вводит тот же прием в отделку стен второго яруса, применив в простенках окон парные пилястры, которых вообще не было у Кваренги. Этот чуть заметный «нажим» в повторении определенного приема, тяга к усложнению, насыщению архитектуры уже выдают время восстановления зала. При этом сохранение Стасовым кваренгиевских основных приемов решения парадных зал, при частичном усложнении декоративных решений, еще свидетельствует о прочности традиций русского классицизма именно в творчестве этого мастера, который до конца жизни оставался верным этому стилю.
Но тогда же, рядом с ним, в соседних залах работал другой архитектор, которого по традиции принято еще причислять к мастерам классицизма, но который тем не менее фактически уже не создал ни одной работы в этом стиле. Это — А. П. Брюллов.
Сравнивая их одновременные работы между собой и в особенности сопоставляя допожарный вид восстанавливавшихся Брюлловым интерьеров с осуществленной им отделкой, легко увидеть все те новшества, те качественные изменения, те отклонения от норм классицизма, которые были уже вполне органичны для более молодого мастера. Новые черты проявились и в архитектуре нескольких больших парадных зал, заново отделанных по проектам Брюллова (Александровский зал, Белый зал, Большая столовая и т. д.), и в особенности в сравнительно небольших внутренних покоях — Помпейской столовой, Готической гостиной, Малиновой гостиной, Мавританской ванной, самые названия которых уже говорят о том, что здесь полностью была отдана дань новым романтическим архитектурным вкусам. Это были не первые робкие попытки творчества в новом направлении, а законченные работы, свидетельствующие о сознательном стремлении найти принципиально иные, чем в классицизме, приемы решения интерьеров.
О том, что это стремление было уже вполне органичным для этого мастера, говорит и то, что еще в 1834 г., за несколько лет до пожара 1837 г., Брюллов разработал проект устройства в Зимнем дворце новой Александровской галереи с декоративными нервюрами сводов, по рисунку уже достаточно далекими от чистого классицизма. Этот проект, оставшийся неосуществленным, во многом предвосхитил и подготовил идею архитектурного решения Александровского зала, расположенного приблизительно на том же месте, где предполагалось устройство Александровской галереи.
Александровский зал Зимнего дворца тяготеет скорее не к соседним с ним стасовским парадным залам, а к будущим парадным интерьерам тоновского Кремлевского дворца в Москве, и, прежде всего к Георгиевскому залу. В классицизме был бы уже невозможен такой зал, с пучками колонн, поддерживающими сложную систему арок, вызывающих ассоциации с готическими гуртами, с тончайшей скульптурной отделкой, покрывающей поверхность сводов и стен, с тяжелыми люстрами, низко свисающими в центре зала. Александровский зал, созданный как мемориальный зал в честь Александра I, стилистически уже почти не связан с его эпохой. Но о царствовании его должны напоминать многочисленные декоративные эмблемы — капители в виде двуглавых орлов, скульптурные «трофеи» и, наконец, батальные картины, которые повествовали о военных победах императора. Казалось бы, все эти приемы встречались в аналогичных случаях и в русском классицизме. Но, кроме формальной разницы в трактовке декоративных мотивов, их отличает еще и перенос «центра тяжести» в создании архитектурного образа на конкретные «тематические» эмблемы и аллегории.
Архитектурный образ былых парадных зал классицизма был настолько выразителен, даже героичен, что декоративные добавления в виде «трофеев», барельефов были лишь второстепенными, хотя и неотъемлемыми элементами убранства.
В Александровском зале Брюллова художественный образ создается уже не чисто архитектурными, а скульптурными средствами. Он невозможен без тех повествовательных, разъясняющих его смысл многочисленных декоративных деталей, которые постепенно начинают играть главную роль в композиции, определяя архитектуру зала в целом.
|
|
|
А П. Брюллов. Проект Александровской галереи в Зимнем дворце, 1834 г. |
Этот перенос акцента с общего на частности, на первый взгляд еще мало заметный, является тем новшеством, которое заставляет подходить к архитектуре этого зала уже с иными эстетическими критериями, чем к произведениям русского классицизма. Эту необходимость изменения эстетических критериев хотелось бы особо оговорить. Естественно, что нам никогда не удастся целиком увидеть эту архитектуру теми глазами, какими ее воспринимали современники, на чьих глазах она творилась и формировалась заново. Но было бы неверно судить ее лишь с наших сегодняшних позиций или следуя тем нормам и эстетическим критериям, которые приняты нами для русского классицизма. Именно с этих позиций в специальной литературе о работах Брюллова говорится: «Перегруженность скульптурными украшениями, размельченность форм и особенно механическое соединение архитектурных элементов, заимствованных из различных стилей...— все это нарушает благоприятное впечатление, которое производит пространственная композиция зала, его легкие, смело переброшенные арки и общий архитектурный замысел» 39. Такая характеристика, с нашей точки зрения, явно нуждается в перестановке акцентов. Ведь и общий архитектурный замысел, и смелое пространственное решение зала неотделимы от тех новых средств выразительности архитектуры, которые вводит здесь Брюллов. С этой точки зрения его произведение предстает скорее не как воплощение «распада стилевого единства», а как одна из первых попыток утверждения нового художественного языка в архитектуре, порожденного эстетическими взглядами всей эпохи.
Тяготение к историческим реминисценциям, к художественным образам средневековья, к романтическим литературным ассоциациям, к созданию вокруг человека иллюзорной исторической среды проникло в архитектуру, определив собой повествовательность, иллюстративность, реальную конкретность декоративного убранства. В силу вступили новые эстетические закономерности, во многом далекие от специфики собственно архитектуры, но тем не менее оказавшие на нее неизгладимое воздействие. Уход от идеальных вневременных художественных образов классицизма ко все более конкретным, сомасштабным человеку, романтически окрашенным историческим декоративным формам был осознанным и неотвратимым. Приоритет литературы в этом эстетическом движении не мог не сказаться на характере художественных поисков, повлияв на образную сторону архитектуры. Своего рода «занимательность», избыток фантазии, неистощимость выдумки, неисчерпаемое разнообразие форм стали определять успех творчества архитекторов.
«Ванная — небольшая комнатка... между тем в ней сосредоточены все красоты Альгамбры, вся роскошь гренадских мавров; дивный характер волшебных вымыслов своенравного искусства востока отпечатан здесь на всем с полнейшей верностью; вы имеете настоящую идею о блеске и великолепии жилищ халифских. Да, художник похитил все это из Альгамбры, и верно никто не поставит ему в вину этого похищения......Будуар. Новый мир; предшествовавшее впечатление еще живо, и вдруг вы перенесены в эпоху Возрождения. Эта комната чисто архитектоническая; кисть не прикасалась к белопесочным ея стенам» 40. Этот восторженный отзыв о новых работах Брюллова прекрасно отражает те коренные изменения, которые совершились в восприятии архитектуры. Точно рассчитанный контраст в убранстве комнат стал сознательным художественным приемом, сменив прежнее стилистическое единство.
|
|
|
Вид Нового Эрмитажа. Акварель В. С. Садовникова, 1851 г. |
Насыщенная всевозможными элементами восточной архитектуры, сосредоточившая всю «роскошь Альгамбры», ванная комната стала как бы художественным символом искусства Востока. И в противовес восточной роскоши внезапно возникал строгий облик спальной комнаты, навеянный образами Ренессанса. Именно неожиданность, острая контрастность архитектурных образов и связанных с ними литературно-художественных ассоциаций стала сознательным приемом, обусловив разнообразие и равноправие «стилей». Не вырождение классицизма, а отрицание его, не упадок мастерства, а сознательное стремление к разнообразию художественных впечатлений, к романтичности ассоциаций и узнаваемости прообразов руководили зодчими, отражая общие изменения эстетических взглядов эпохи. Не случайно их более чутко отразил в своих работах в Зимнем более молодой А. Брюллов, который уже почти не застал эпоху классицизма и фактически начал сразу с романтических ассоциаций готики. Трудно не видеть в его работах нового понимания декоративности, стремления к решению новых пространственных задач. Можно уверенно утверждать, что сознательное стремление к разнообразию декоративных форм возникало не от творческого оскудения зодчего, а от известного раскрепощения творческой фантазии. Не надо забывать о том, что все более гнетущие рамки академизма в период обучения мастерству зодчего в Академии художеств в противовес этому заставляли молодых архитекторов всемерно расширять свой художнический кругозор и что в пенсионерских поездках они, и в частности А. Брюллов, могли видеть не только античные памятники, но и архитектуру готики, интерес к которой неуклонно возрастал. Даже традиционные пенсионерские поездки выпускников Академии в Италию, в Рим, приобрели теперь совершенно иной характер. В «вечном городе» они стали искать не образы античности, а «тот самый дух христианского Рима, отзвуки которого можно найти в творчестве лучших художников и поэтов того времени». 41
Проникнутые романтизмом акварели А. Брюллова, его пейзажи и портреты итальянского периода говорят о его быстрой восприимчивости к новым веяниям и об искреннем увлечении ими. Это не могло не сказаться и на его архитектурном творчестве, выразившись не только в постройке «готической» Парголовской церкви (1831), но и в интерьерах Зимнего дворца, ставших образцом для многочисленных подражаний. В них есть еще многое от русского классицизма, но сквозь строгие его черты уже пробивается неудержимая фантазия архитектора, которая нередко теряет меру в своем стремлении быть свободной. Эти новые черты, в несравненно более холодном, чопорном, сухом и педантичном западноевропейском, точнее, немецком варианте проявились в архитектуре одного из первых крупных сооружений нового направления — здания Нового Эрмитажа, построенного в 1839—1852 гг. по проекту известного немецкого архитектора Лео Кленце под руководством А. П. Брюллова и Н. Е. Ефимова.
Собственно, формирование впервые в истории русской архитектуры типа специального музейного здания было также выражением растущего интереса к искусству, к истории искусства, к систематизации ее фактов, к выявлению их достоверности. Оно как бы символизировало собой то новое отношение к историческому наследию, к истории и ее безмолвным свидетельствам, которое было характерным для той эпохи. Прежние эрмитажные залы перестали удовлетворять как музейные помещения. В них сохранилась немузейная теплота атмосферы, известная обитаемость. Музейные залы Нового Эрмитажа нельзя спутать с ними даже при мимолетном знакомстве. Здесь целиком нашла воплощение холодная отвлеченность музея, та подчеркнутая «археологичность» архитектуры, которая достигалась за счет деталей и стала отличительной чертой музейных зданий последующей половины столетия. Музей-образец, музей-экспонат стал необычайно характерным для эклектики как своего рода эталон исторической архитектуры, как гипсовый слепок с античного оригинала. Эти черты, характеризующие одно из направлений западноевропейской эклектики, оказали несомненное воздействие на ряд сооружений в русской архитектуре середины столетия. Но в особенности ярко они были выражены в архитектуре Германии, где стремление к достоверности деталей порождало ту сухость форм и графичность рисунка, которая всегда отличает копию от оригинала.
В той же мере эти качества отличали новые «классицистические» произведения от недавних сооружений классицизма. Плоскостность вместо пластичности, подробная детализация вместо обобщения форм коренным образом изменили язык архитектуры, и общность античных источников в них почти перестает чувствоваться. В специальной литературе уже отмечалось чужеродность архитектуры Нового Эрмитажа в тогдашнем классическом Петербурге 42.
В той же мере особняком оно стоит в истории русской архитектуры, как произведение, типичное для творчества немецкого зодчего. Но несомненно, что в свое время это здание должно было производить большое впечатление, играя роль некоего наглядного эталона современных достижений европейской культуры. Новые интерьеры Зимнего дворца еще сохраняли стилистическую двойственность, свойственную переходному этапу. Интерьеры Нового Эрмитажа, как и его внешний облик, уже целиком принадлежали новой эпохе. Зодчий предстает здесь во всеоружии всех научных достижений археологии и успехов современной техники. Он свободен в выборе разнообразнейших отделочных материалов, он неистощим в изобретении все новых композиционных схем и декоративных мотивов. Колоннады из естественного камня, мраморные полы разнообразного рисунка, широкое применение декоративных металлических решеток, «помпейские» росписи стен, декоративная лепка сводов, кессонированные потолки создают необычайно насыщенное пространство музейных зал, ни один из которых не повторяет другой. Новым элементом в композиции ряда залов является верхний свет, позволяющий еще более разнообразить их пространство. И все же зрителя не оставляет чувство необычайного однообразия, незапоминаемости облика каждого зала, несмотря на видимое несходство их отделки. Это однообразие мешает свободно ориентироваться в залах, несмотря на достаточно четкое функциональное решение плана, препятствует восприятию экспонатов. При этом архитектура каждого зала Нового Эрмитажа как будто постоянно спорит с выставленными здесь вещами, утверждая свое равенство с ними, свое самостоятельное художественное значение. Аналогичный характер носили созданные тем же зодчим интерьеры Глиптотеки в Мюнхене (1816—1830 гг.). Здесь сказался зародившийся именно в эти годы взгляд на архитектуру музейных зданий как на своеобразный экспонат, где каждое выставочное помещение по стилю должно соответствовать демонстрируемым там произведениям искусства отдельных эпох.
|
|
|
«Зал монет» в Новом Эрмитаже. Акварель Л. Премацци, 1853 г. |
Говоря об интерьерах Нового Эрмитажа, интересно отметить, что почти сразу же после их завершения в 1852 г. художникам К- А. Ухтомскому, Л. Премацци и Э. Гау 43 была поручена зарисовка всех зал с натуры, вернее, их точная фиксация. Этот факт был чрезвычайно симптоматичным. Он говорил о неподдельном восхищении достижениями новой архитектуры, уподобляемой по своему значению великим памятникам прошлого, о стремлении увековечить ее. Очень характерными являются и формальные особенности этих акварелей — они как будто спорят с натурой точностью в передаче деталей и натуралистичностью цвета. Отчасти это объясняется тем, что перед художниками была поставлена узкая задача фиксации отделки залов. Но, с другой стороны, художественные особенности этих листов говорят и о том изменившемся подходе к акварельному изображению, когда мягкость линии и прозрачность цвета сознательно подменялись жестким определенным контуром и глухим кроющим цветом. Буквальность передачи натуры стала основной задачей художника, перекликаясь в этом отношении с трактовкой декоративных форм в архитектуре. Тончайшие по рисунку и пестрые по цвету акварели интерьеров Нового Эрмитажа позволяют глубже понять специфические особенности их архитектуры, проникнуть в ту творческую «кухню», которая отличала зодчих-эклектиков от зодчих других эпох. В их работах как будто не существовало главных и второстепенных деталей, им уделялось одинаково большое внимание. Близкий характер исполнения, излишняя детализация и мелочность не позволяли определить композиционные акценты, отличить конструктивное от декоративного, обобщить ведущую художественную идею каждого зала.
В тончайшей и точнейшей передаче акварелистов эти новые черты архитектуры как будто усугубляются, подчеркиваются, свидетельствуя в то же время о теснейшей связи художественной формы в архитектуре той эпохи со всеми стилистическими изменениями, отличавшими изобразительное искусство, о их взаимовлиянии и взаимопроникновении.
Появившись впервые в уникальном дворцовом строительстве, новые приемы постепенно проникали в массовую архитектуру. Нельзя сказать, что новые взгляды и новые формы принимались сразу. Они казались поначалу достаточно непривычными людям, воспитанным на архитектуре классицизма, хотя поздний классицизм стал все менее их удовлетворять.
«Несмотря на необыкновенную деятельность и широкие средства, на сильную потребность, на любовь к роскоши и великолепию, в последнее время Петербург украсился весьма небольшим числом истинно прекрасных зданий; недостаток этот преимущественно заметен в новейших частных домах; из них едва ли можно назвать десяток таких, которые бы выдержали сравнение с домами времен Воронихина и Гваренги. Симметрия и расчет, расчет и симметрия написаны на фасадах даже тех домов, которые имеют все средства и поменьше рассчитывать, и побольше разуметь условия и потребности высшей, художественной красоты в архитектуре» 44,— отмечала в 1841 г. «Художественная газета». «Симметрия» — это слово становится особенно осуждающим в устах любителя искусств на рубеже 1840-х годов. Обязательная симметрия планов и фасадов воспринималась как путы, как оковы. Формальность, каноничность планировочных схем русского классицизма при всей их отточенности и эстетической выразительности не раз была предметом критики в эти годы.
«...Симметрия стен, или симметрия деления строений, как предмет более условный и видимый только на плане и трудно замечаемый в натуре, всегда должна уступать удобству в расположении» 45 — писал в своем «Учебном руководстве к архитектуре» зодчий И. Свиязев, впервые обобщивший закономерности новой архитектуры. Отказ от жесткой симметрии, все большая свобода пространственных композиций, внимание к «удобству расположения», к бытовым потребностям обитателей домов, стремление уравновесить «прекрасное и полезное» с этого времени становятся определяющими.
«Если удобство составляет необходимое достоинство каждого здания, то высочайшая красота не должна ли состоять в полном выражении его назначения? Нам кажется, что один взгляд на здание должен уже раскрывать зрителю цель, с какою оно построено, точно так же как по лицу и приемам мы привыкли угадывать наклонности человека. Если бы, наконец, не было тысячи доказательств всеобъемлемости человеческого гения; если бы не было доказано, что прекрасное и полезное составляют одно; если бы нам предоставлено было сделать грустный выбор между тем и другим, мы бы огорчились, мы бы облеклись в траур, а все-таки полезное предпочли бы прекрасному» 46.
Самое возникновение подобной альтернативы лучше всего свидетельствовало о нарастающем разрыве между этими двумя понятиями. Чем более старались современники оправдать выбор украшений необходимостью в облике здания выразить его назначение, «цель, с какою оно построено», тем более самостоятельными, как бы отделенными от материальной основы здания становились эти декоративные мотивы. При этом складывались совершенно определенные соотношения между такими понятиями, как «полезное» и «прекрасное», что в конечном счете отражало сложные соотношения между реальным назначением здания и его архитектурным образом, хотя самое выражение это еще тогда не употреблялось.
«Все, что служит к действительной (строительной) пользе здания, имеет геометрическую форму, определенную правилами науки. Но то, что удовлетворяет эстетической потребности человека — разнообразить свои впечатления, не стеснено подобными правилами: для этих придаточных, и не необходимых частей, воображение создает формы, следуя безотчетно эстетическому вкусу, или заимствует их из природы, не соблюдая при этом других правил, кроме тех, какие полагаются обыкновением или привычкою. Формы этих частей принадлежат к образовательным искусствам: живописи и скульптуре.
В общем смысле украшениями называются все вообще приложения живописи и скульптуры к архитектуре; в частном смысле под этим названием подразумевают украшения гладких поверхностей собственно архитектурных частей. Украшения сообщают частям здания более блеску, изящества и богатства» 47 — эти слова А. Красовского, написанные в 1851 г., необычайно точно воплощают все особенности нового архитектурного мышления.
«Изящество» — это новое для архитектуры понятие воплощало в себе нечто, противоречащее прежним нормам зодчества, нечто, роднящее его с остальными «изящными искусствами», и в то же время отчасти отнимающее у него те преимущества монументальности, вещественности, материальности, которые ранее отличали архитектуру от остальных искусств.
«Эстетические потребности человека происходят от врожденного ему чувства изящного. Чувство это, развитое основательным изучением, называется эстетическим вкусом. Подчиненность гражданских зданий эстетическим условиям вводит архитектуру в разряд художеств, или изящных, творческих искусств.
Каждое произведение изящного искусства заключает в себе два элемента: сущность и форму, то есть идею и чувственное её представление... Изящество или красота есть совершенство внешнего представления, и, следовательно, изящная архитектура должна иметь целью обнаружить внешним представлением внутренний смысл, значение и цель здания» 48.
«Дом наш... был просторен, роскошен и изящен, как было изящно все, что строил мой отец» 49,— писала дочь архитектора Штакеншнейдера об их новом доме на Миллионной улице в Петербурге. Эта краткая характеристика совмещает все те требования, которые стали предъявляться к архитектуре жилых домов, и очень ярко свидетельствует об изменившихся вкусах. Высокое понятие «прекрасного» было заменено более земными понятиями «роскоши и изящества», что свидетельствовало о сознательном отказе от строгих канонов красоты. Последнее давало широкий простор для «умного выбора», т. е. для самых различных свободных сочетаний декоративных форм, составляющих сущность эклектики, ее эстетическое кредо, которое четко формулировалось уже в то время.
«Некоторые находят, и не без основания, что карниз дома не отвечает римскому приему его...— говорилось об одной из новых работ А. А. Тона — доме военного министра на Малой Морской улице в Петербурге.— Замечания тех, которые находят несообразность карниза с целым, в том, что он не отвечает декорации фасада в стиле рококо,— вовсе несправедливы. Во-первых, рококо, означая вкус в орнаментах, не означает стиля и не налагает на части здания тех условий, которые предписывает стиль, определяющий общую форму, или прием, здания. Вкусы rococo, renaissance, vieux gout francais и другие, требуя единства в частях декораций, не имеют никакой связи с карнизом, составляющим одну из существеннейших частей здания» 50.
В этом частном примере необычайно явственно выражен один из основополагающих принципов архитектуры эклектики, а именно: «вкус в орнаментах не означает стиля и не налагает на части здания тех условий, которые предписывает стиль, определяющий общую форму, или прием, здания». Именно в смысловой дифференциации «стиля» и «вкуса», которые не надо путать, как их не путали и современники, и лежит, как нам кажется, источник известной двойственности эклектики. Вспомним, как горячо старался оправдаться перед Кановой архитектор Кваренги, нарушивший в своем здании Кабинета каноны классических ордеров и сознательно применивший изящную ионическую колоннаду при лаконическом дорическом фризе. Теперь, в 1840-е годы, такое нарушение было бы вполне простительным и допустимым. Не только дорический антаблемент мог венчать ионическую колоннаду, но и римский карниз мог завершить здание во «вкусе» («вкусе», а не «стиле»!) рококо, поскольку зодчий не стремился к полному воссозданию стиля и ставил себе совершенно иные задачи. «Барочная» отделка фасадов еще никак не означала барочного рисунка плана, «ренессансная» декоративная одежда не предполагала заимствования в Ренессансе каких-либо композиционных приемов или типичных для этого стиля пространственных решений. Отдельные особенности структуры, плана, объема здания, его общая форма могли быть совершенно новыми или заимствоваться у любого стиля, но это совсем не означало, что и все декоративное решение должно было соответствовать стилю лишь избранного первоисточника.
С другой стороны, избранный зодчим «вкус в орнаменте» отнюдь не предопределял общей композиции здания в том же стиле. Использование преимущественных, выигрышных сторон того или иного стиля вне его «оков», вне его строгих закономерностей — вот чем руководствовались на первых порах зодчие, создавая архитектуру, столь отличную от классицизма, соединяющую в себе все достижения и новшества современной техники с архитектурными формами, заимствованными в богатейшем арсенале исторического наследия зодчества. В большой степени именно успехи в материальной сфере архитектуры поддерживали ту уверенность в бесспорности ее достижений, которая столь долго была присуща современникам эклектики. Все более широкое внедрение металлических конструкций, особенно характерное для второй половины XIX в., создавало благоприятные условия для введения все новых, небывалых композиций, неузнаваемо изменявших характер первоисточников. При этом и многообразные декоративные формы и композиционные приемы, заимствованные из самых различных эпох, подвергались той неуловимой трансформации, тому обязательному переосмыслению, которые свидетельствовали лучше всего о существовании вполне определенных, достаточно четких и в то же время достаточно широких эстетических требований, предъявляемых к зодчеству. Мы никогда не ошибемся в принадлежности того или иного здания к эклектике, в каком бы стиле оно ни было выдержано, никогда не спутаем его с подлинником. Печать эклектики видна на всех ее произведениях, независимо от творческих особенностей их авторов. Особое «прочтение» первоисточников и формирование единых методов в построении архитектурных организмов и трактовке декоративных форм позволяют говорить о своеобразном стилистическом единстве в зодчестве этой эпохи, как ни парадоксально это кажется на первый взгляд в применении к творчеству зодчих, чьим творческим кредо было сознательное «многостилье». Архитектурные формы ренессанса и барокко, готики и византийской архитектуры получили совершенно особый, общий характер. Их роднила своеобразная нивелировка форм, явное стремление избежать сильных пластических акцентов или наиболее характерных композиционных приемов того или иного стиля. Объемно-планировочная структура здания не исходит из требований определенного стиля, напротив,— декоративные формы какого угодно стиля должны приспосабливаться к заранее заданной новой структуре здания. Этот сознательно допущенный разрыв был одним из непременных условий рождения эклектики в архитектуре. Таким образом, понятие «эклектика» может быть распространено не только и не столько на смешение в одном здании декоративных форм различных стилей, сколько на сочетание композиционных приемов одного стиля с декоративными формами другого и на рождение в результате этого чего-то третьего, качественно отличного от того и другого. При этом изменение структуры сооружений, пространственного решения интерьеров, а главное — абсолютных размеров зданий диктовало новые приемы масштабных соотношений и пропорциональных членений. Определяющими становятся поиски новой масштабности, поиски приемов, делающих архитектуру соразмерной человеку, вернее, соизмеримой с ним. Новые формы фасадов выявляли изменения, происходившие во внутренней структуре зданий, подчеркивая возрастающую этажность зданий, в первую очередь — доходных домов, которая долго сдерживалась жесткими каноническими композиционными схемами классицизма, как правило исходящими из трехъярусного построения. Эстетика классицизма оказалась бессильна найти для них новые приемлемые формы, не подавляющие отчужденностью и однообразием. Противоречие между крупной архитектурной формой и все более расчлененной, многоярусной структурой зданий требовало реального выхода, который был найден лишь новым архитектурным направлением.
Соразмерность новых сооружений человеку достигалась все большей детализацией декоративных форм. Поэтажное, многоярусное построение больше не скрывалось, не маскировалось большим ордером, а выявлялось, подчеркивалось либо мерным ритмом поэтажно повторяющихся колонн или пилястр, чередующихся с одинаковыми окнами, либо изобильной декоративной лепкой, следующей основным членениям фасадов. Своего рода «интимизация» архитектуры, снятие пафоса монументальности даже в общественных сооружениях была, несомненно, сознательным приемом, хотя никогда не провозглашалась и не формулировалась зодчими.
Уравновешенность композиций классицизма сменяется сознательно введенной асимметрией, скупость декоративных средств — их изобилием, пластичность архитектурных форм и объемов — графичностыо, плоскостностью, монументальность крупных форм — измельченностью членений, обобщенность рисунка — чрезмерной детализацией, статичность традиционных художественных типов — романтичностью, разнообразием, неожиданностью архитектурных образов.
Если сравнить, например, торжественный облик зданий Министерства внутренних дел и Министерства народного просвещения, примыкающих к Александрийскому театру Росси (1827—1832 гг.), со зданиями Министерства государственных имуществ, построенными в 1844— 1852 гг. Н. Е. Ефимовым, то разница между ними выступает очень наглядно. Всего несколько лет отделяют их друг от друга. Но если россиевские здания еще воплощают в себе монументальную парадность, совершенную гармонию фасадов, как бы обобщая весь «эстетический кодекс» позднего классицизма, то новые здания на Исаакиевской площади возвестили уже о совершенно иных тенденциях. Определяющим здесь является не просто желание уйти от жестких канонов классицизма, использовав композиционную схему ренессансного палаццо. Важно то, что этот выбор продиктован стремлением найти новый архитектурный образ, наиболее полно соответствующий реальной многоярусной структуре зданий, и, более того, отразить эту структуру в решении фасадов. Объемно-планировочное решение зданий уже не стеснено заранее заданной жесткой схемой фасадов, замкнутым в себе объемом. Определенная повторяемость, ритмичность членений позволяет решить сильно протяженные фасады обоих зданий как бы в одной тональности, одной темой, избегая сильных композиционных акцентов или ясно выявленной симметрии даже в решении главного фасада с центральным входом. Если каждый фасад в наиболее протяженных композициях Росси — например, в здании Главного штаба, кроме общего для всего здания композиционного центра — арки,— имеет свои центрирующие акценты — портики, то здесь композиция построена на сознательном исключении таких акцентов. Повторяемость как по горизонтали, так и по вертикали нескольких элементов — окна, колонны, карниза — позволяет в идеале увеличивать как этажность, так и протяженность фасадов этих зданий «до бесконечности». При таком построении дома могут располагаться на самых неудобных участках, могут следовать всем изгибам улицы, заполнять свободные промежутки, огибать тупые и острые углы перекрестков, создавая единую красную линию застройки.
Этот новый подход к зданию как к динамичному, не статичному, а развивающемуся организму и в то же время стремление найти новые приемы архитектурной декорации, выражающие этот новый подход, читаются в архитектуре большинства крупных сооружений, начатых строительством в Петербурге в 1840-е годы. Мариинский дворец на той же Исаакиевской площади, законченный А. Штакеншнейдером как раз к началу строительства (1844) зданий Министерства государственных имуществ, еще в очень слабой, но явственной форме выражает те же новые тенденции. Зодчий был связан здесь классической симметричной композицией существовавшего дворца Чернышева, который он перестраивал. Но и здесь нивелировка акцентов, плоскостность декоративных форм, известная незавершенность композиции выдают совершенно иной, чем в классицизме, взгляд на архитектуру. Архитектурная декорация как будто стремится слиться с фасадом, колонны центрального портика превращаются в полуколонны, плотно прижатые к стене, пилястры еще более уплощаются и становятся почти нарисованными на фасаде. Пластичность, сочность деталей уступает место все более четкой их прорисовке, приводящей к жесткости форм. Этот новый «изобразительный» подход очень ярко иллюстрируется одним высказыванием того времени по вопросу, прямо не относящемуся к архитектуре, но очень тесно с ней связанному. Это — вопрос об иллюминации зданий, имеющей в России свои богатые традиции и на каждом этапе развития архитектуры,— отражающей в специфической форме особенности эстетического восприятия своего времени.
«Новость и очищенный вкус необходимы в подобных украшениях точно так же, как в убранстве бала, головы, в платьях, экипажах и т. д. Иллюминировать здание, значит огнями искусно обложить главные его линии, если они хороши, со вкусом придуманными украшениями скрыть их, если они дурны, или, избегая однообразия, совершенно изменить их узорами... Основываясь на изложенных правилах, мы были приятно удивлены великолепием иллюминации дома Главного штаба. Это именно теория архитектурного освещения, исполненная на практике: все главные линии были иллюминированы; все размеры окон обозначены огнями; узоры каждого круга придуманы удачно; мелкие окна третьего этажа скрыты звездами; придаточные орнаменты превосходны; словом, это была изящная иллюминация... Подобное освещение здания мы называем архитектурным; оно имеет свои законы, изящество, правду. Не грустно ли смотреть, когда позади колонн наставят плошек, для того чтобы выдвинуть мрачную их массу вперед и сказать: „не забудьте, это здание с колоннами". Не лучше ли тесными кругами расположить огни снизу и до верху и превратить колонну в огненный столб; даже спиральная огненная линия лучше, хотя она и уничтожает характер здания».51
Здесь очень явственно противопоставляется прежнее, пластическое понимание архитектуры, присущее классицизму, новому «графическому» ее пониманию. Изобретательность, фантазия в выявлении всех основных контуров и деталей здания, при внесении новых украшений, маскировке того, что считалось некрасивым, ценились больше всего.
Не объем, а плоскость стала характеризовать архитектуру эклектики, что сказалось в уподоблении стены с уснащающими ее декоративными деталями плоскости листа, покрытого тончайшим орнаментальным рисунком. При всем внимании к реальной структуре, к внутреннему пространству, внешний объем здания в целом почти перестает фигурировать как пластическая форма, определяющая качества архитектуры. Отчасти причина этого состояла в том, что все более тесная застройка городов давала все меньше возможностей для постановки крупных, отдельно стоящих объемов зданий. Архитекторам приходилось все более приспосабливаться к конкретной форме предлагаемых участков, заполняя все свободные места, уходящие в глубь кварталов. Этот процесс, начавшийся, как известно 52, еще в недрах русского классицизма в архитектуре доходных домов и достаточно сказавшийся в крупных общественных сооружениях, во многом предопределил особенности архитектуры всего XIX столетия.
Начавшийся уже в поздних работах Росси процесс отделения внутреннего объема здания от его внешнего художественного выражения привел к рождению фасадов-ширм, фасадов-плоскостей. Если в классицизме такая плоскостность перебивалась сильными пластическими акцентами, то в новом направлении нивелировка, сглаживание деталей приводили к тому, что объем словно составлялся из нескольких плоскостей, поставленных под углом друг к другу. Ясно читающиеся грани фасадов составляли как бы скорлупу, а не тело здания, которое уже не кажется цельным объемом. Вместе с тем, и это было одной из особенностей эклектики, необходимость строить композицию в глубь квартала привела к формированию совершенно особых приемов построения внутреннего пространства, не получивших, за редким исключением, никакого отражения в решении фасадов. Более того, на этом строился даже своего рода эффект неожиданности, поражающей зрителя, когда он, войдя в сравнительно небольшие, низкие двери, теряющиеся на фоне многоярусного, монотонного, однообразного фасада, внезапно видел пронизанное светом свободное, воздушное пространство. Этот совершенно новый прием решения внутреннего пространства, типичный для эклектики, предопределил композицию целого ряда самых разнообразных сооружений второй половины XIX в., начиная от богатых доходных домов и особняков с их устремленными ввысь пространствами парадных лестниц, городских дворцов, с перспективами парадных зал и кончая крупными общественными сооружениями — театрами, банками, пассажами с их бесконечными крытыми галереями. В рассматриваемый период этот прием нашел наиболее яркое, впечатляющее выражение в ряде работ Штакеншнейдера, преимущественно в крупных дворцах — Мариинском (1839—1844 гг.), Николаевском (1853—1861 гг.), Ново-Михайловском (1857—1861 гг.), очень близких по своему характеру, несмотря на разницу в избранном стиле. И «классические» детали фасадов Мариинского дворца, и «барочные» — Ново-Михайловского, и «ренессансные» — Николаевского очень графичны, тонки и сухо прорисованы и как будто приклеены к плоскости фасадов. В этих сооружениях можно проследить, как постепенно складываются те особенности и те противоречия, которые будут впоследствии определяющими качествами эклектики. С одной стороны, подчеркнутая многоярусность членения фасадов как будто призвана выявить ярусную структуру многоэтажных зданий. С другой — за этими протяженными, монотонными от повторяющегося ритма одинаковых окон и пилястр бесконечными фасадами нередко скрываются принципиально новые, смелые пространственные решения, не соответствующие структуре фасадов. Трудно догадаться, например, что за плоскостными стенами Мариинского дворца с его сравнительно небольшими окнами, с его симметрично уравновешенной, еще классической композицией главного фасада скрыта редкая по смелости пространственная композиция целого ряда парадных зал, а в Николаевском дворце с его рядами одинаковых окон на протяженных плоскостных фасадах взорам входящего внезапно открывается пронизанное светом и воздухом пространство парадной лестницы, словно улетающей в глубь здания, «раздвигающей» его стены. Эти новые приемы говорили о зарождении совершенно нового отношения к архитектурному пространству.
|
|
|
А. И. Штакеншнейдер. Проект Мариинского дворца в Петербурге. Поперечный разрез, 1841 г. |
|
|
|
А. И. Штакеншнейдер. Проект Ново-Михайловского дворца в Петербурге. Поперечный разрез, 1859 г. |
|
|
|
А. И. Штакеншнейдер. Проект Ново-Михайловского дворца в Петербурге. План, 1959 г. |
|
|
|
А. И. Штакеншнейдер. Николаевский дворец в Петербурге (1853—1861 гг.). Фотография начала XX в. |
|
|
|
А. И. Штакеншнейдер. Николаевский дворец в Петербурге (1853—1861 гг.). Парадная лестница. Фотография начала XX в. |
В анфиладах барокко, в цепи парадных залов классицизма пространство каждого зала было фактически изолировано друг от друга, просматриваясь вместе лишь с одной точки, по центральной оси входов. На бесконечности перспективы, на повторяемости мотива распахнутых дверей был основан эффект анфиладного построения барокко. Парадные залы классицизма строились по принципу смены впечатлений, художественных контрастов при переходе из одного зала в другой, отличающийся от него объемом, архитектурным решением, размерами, цветом, иногда высотой. Система построения зал в классицизме, даже в Таврическом дворце, наиболее уникальном по пространственному решению, все же остается осевой, замкнутой. В Мариинском дворце, несмотря на осевое расположние зал, достигается совершенно новый пространственный эффект.
Здесь целая система зал различной формы и величины уходит в глубь дворца от парадной лестницы, которая смещена с центральной оси. Открывающиеся при выходе с нее залы, целиком просматривающиеся с самых разных точек, можно считать одним, причудливой формы, пространством, расчлененным на отдельные объемы легкими двухъярусными сквозными колоннадами. Такое слияние пространства нескольких зал создает совершенно необычайную перспективу. Каждое перемещение человека создает новые точки зрения на архитектуру, новые перспективы, новые ракурсы, динамичные и неожиданные. Их число бесконечно. И вместе с тем, несмотря на огромные «перетекающие» пространства, человек не теряется в них, не подавлен ими, потому что пропорции этих зал и их архитектура сомасштабны ему. Характерно, что здесь нет большого ордера, обычно объединяющего пространство двусветных зал классицизма. Двухъярусные, поставленные одна на другую, как бы свободно «парящие» в воздухе, открытые колоннады почти одинаковы по размерам и не подавляют своими масштабами. Такое двухъярусное построение, характерное для парадных дворцовых зал Штакеншнейдера, очень симптоматично. Есть определенная закономерность в том, что при все большем увеличении абсолютных размеров зданий и все более смелом пространственном решении интерьеров зодчие стали стремиться к тому, чтобы придать им черты, приближающие их к реальному человеку, позволяющие ему найти себе место в архитектуре. Это, видимо, и было одной из причин того, что растущие в вышину здания приобретали все более мелкие членения, соразмерные человеку. Может быть, и столь часто и справедливо отмечаемая измельченность деталей боковых куполов Исаакиевского собора была данью этой тенденции, долженствующей смягчить бесчеловечную грандиозность колоннад четырех портиков и венчающего купола, найти некий средний масштаб между ними и человеком. Не случайно из интерьеров и с фасадов зданий постепенно совершенно уходит большой ордер, объединяющий два этажа, и поярусные членения становятся определяющими для большинства новых сооружений 1840—1850-х годов. Они характерны не только для крупных общественных зданий и доходных домов, но и для небольших жилых домов и особняков. Стремление к разнообразию и «изяществу» становится определяющим в массовой рядовой жилой застройке, постепенно изменяющей характер города. Сначала на фоне классического Петербурга эти первые новые дома должны были казаться еще чужеродными, иногда чрезмерно вычурными, даже безвкусными. Но по тому, как горячо встречалась каждая новая постройка, как подробно описывались и даже анализировались все новшества, видно, как чутки были современники к малейшим изменениям в архитектурной направленности.
«Из числа домов, отстроенных вчерне на Невском проспекте, замечателен своим фасадом и внутренним расположением дом А. Ф. Шишмарева, исполненный по проекту академика Горностаева... Наружный фасад разбит на четыре этажа и имеет по концам два легкие выступа. Посредине фасада идет широкий пояс с вытесненным (eu creux) греческим орнаментом. Нижний этаж украшен рустиками... Внутренность дома, замечательная удобным расположением, смелою лестницей и прекрасною формой плафонов бельэтажа, ожидает в скором времени великолепной отделки» 53.
Даже судя по описанию, видно, что облик этого дома был уже очень далек от классицизма, хотя в нем и упоминается широкий пояс «греческого» орнамента. «Греческий орнамент», «греческий дом» — в эти понятия вкладывался теперь совершенно иной, более узкий и конкретный смысл, нежели в период классицизма.
Отказ от форм русского классицизма был непосредственно связан с новым прочтением античности. Кроме Нового Эрмитажа, где были как бы в готовом виде перенесены на русскую почву приемы немецкой архитектуры этих лет, новая трактовка античных форм отличала целый ряд проектов и сооружений крупных русских зодчих: А. П. Брюллова, А. И. Штакеншнейдера, Г. А. Боссе. Почти идентичным архитектуре Нового Эрмитажа был поначалу спроектированный Брюлловым Служебный корпус Мраморного дворца, в особенности в одном из его вариантов, который не получил осуществления (1845—1848 гг.). Анализ этого проекта делает особенно очевидным то новое, что отличало работы 1840-х годов от классицизма. Это не только уже много раз отмечавшаяся измельченность декоративных форм, а совершенное изменение всех пропорций и членений и введение новых мотивов и композиционных приемов, заимствованных в античности, в греческом и римском зодчестве, но уже необычайно далеких от русского классицизма.
|
|
|
А. И. Штакеншнейдер. Ново-Михайловский дворец (1857—1861 гг.). Танцевальный зал. Фотография начала XX в. |
|
|
|
А. П. Брюллов. Проект служебного корпуса Мраморного дворца. Фасад, 1840-е годы |
Так, крупная рустовка цокольного этажа, служившего основанием верхним этажам с их цельными поверхностями стен, сменяется теперь мелкой рустовкой всей поверхности фасадов. Вместе с тем каждый этаж четко отделяется от другого яруса лепным горизонтальным поясом, и гладь стен, присущая классицизму, утрачивается. Уходят с фасадов и сочные пластические акценты в виде завершающих круглых скульптур, барельефных вставок и фризов. Их место занимают четко прорисованные декоративные розетки и акротерии, венчающие не только фронтоны, но треугольные наличники окон на фасадах и даже в интерьерах зданий.
Ордер все более теряет монументальность и пластичность, отдельно стоящие портики «большого ордера» уступают место плоским, поярусно расположенным пилястрам, почти сливающимся с поверхностью стены. И, словно в компенсацию, все чаще начинают вводиться в композицию фасадов не только кариатиды, но и гермы, как будто несущие огромную нагрузку, а на самом деле играющие чисто декоративную роль. Ведь даже получившие такую известность мощные теребеневские атланты Нового Эрмитажа, со столь видимым напряжением поднимающие огромную тяжесть, сгибающую их, давящую им на плечи, на самом деле соединенными усилиями несут единственный балкон, и потому демонстрация их силы сразу приобретает условный, декоративный смысл. Эта условность, целиком основанная на свободных ассоциациях с сооружениями античности, отличала целый ряд произведений 1840—1850-х годов, преимущественно небольших загородных построек, где формы греческой и римской архитектуры давали материал для самых разнообразных вариаций.
Наряду с увенчивающим Бабигонский холм павильоном «Бельведер» в Петергофе (1853—1856 гг., арх. А. Штакеншнейдер), где последовательно воспроизведена форма небольшого античного храма, сюда следует отнести два более ранних, очень близких по композиции парковых сооружения в Петергофе, где Штакеншнейдер варьировал тему римской виллы и античного жилого дома. Это — «Царицын павильон» (1842—1846 гг.) и павильон «Озерки» (1845—1848 гг.), построенные в живописных уголках петергофских парков с расчетом на композиционную и визуальную связь обоих сооружений.
Популярность темы «римской виллы», характерную для этого времени, можно лишь отчасти объяснить пробудившимся интересом к раскопкам Геркуланума и Помпеи, начавшимся, как известно, еще в середине XVIII в. 54 Скорее, наоборот, этот возросший интерес можно мотивировать изменением художественных вкусов, которым стал наиболее близок не только образ монументальных храмов Греции, но и облик интимных жилых домов поздней античности с их свободной, асимметричной, функционально оправданной планировкой. «Нельзя окончить общего обзора домов помпейских, не отдав справедливости строителям их в искусстве расположения комнат так, что каждый новый хозяин или постоялец находил в них все возможные удобства или с ничтожными изменениями мог удовлетворить все потребности свои, сколь бы они ни были отличны от привычек и нужд, предшествовавших ему обитателей дома. Средства к тому он находил в изобилии переходов, выходов и лестниц в разных частях дома» 55. Здесь особо отмечается та гибкость, мобильность планировки, тот расчет на возможность дальнейшего развития сооружения в любом направлении, которые составляли одно из определяющих качеств архитектуры эклектики. Усвоение этих композиционных закономерностей эклектическая архитектура сочетала с чисто внешним копированием отдельных декоративных приемов. Характерно, что присущее классицизму умение подниматься до высот подлинного обобщения при отказе от всего вторичного и второстепенного, связанное с начальной стадией изучения античности, совершенно исчезло по мере все более близкого знакомства с подлинниками. Напротив, буквальное подражание распространилось даже на приемы, казавшиеся поначалу непривычными и даже некрасивыми.
«Помпеяне чрезвычайно любили пестроту в домах своих,— сообщал в 1842 г. один из русских путешественников,— и оттого не только стены раскрашивали самыми резкими и противоположными один другому цветами, но даже пестрили колонны... С первого взгляда эта пестрота неприятно поражает глаз. Но, всматриваясь в сочетание цветов и допустив мысль, что пестрота может иметь и свою красоту, находим, что художники помпейские употребляли ее с большим вкусом» 56.
«Пестрота», отличавшая грандиозные музейные залы Нового Эрмитажа от классических парадных покоев Зимнего дворца, нашла отражение в многочисленных цветных литографиях и акварелях русских художников этих лет, и в особенности в уже упоминавшихся изображениях дворцовых интерьеров. В полной мере она была присуща и загородным постройкам 1840-х годов, имитировавшим римские виллы. При этом не просто отдельные детали, а даже целые «готовые» элементы, например небольшие четырехколонные храмики, вводились в композицию зданий, очень близких к аналогичным сооружениям, несколько ранее возникшим в европейском, в частности в немецком, зодчестве 57.
|
|
|
А. И. Штакеншнейдер. Павильон «Бельведер» в Петергофе (1853—1856 гг.). Фотография начала XX в. |
|
|
|
А. И. Штакеншнейдер. Проект павильона «Бельведер» в Петергофе. План, 1851 г. |
Эти новые тенденции проявились в уже ранних постройках Штакеншнейдера, например в здании Сергиевской дачи в Старом Петергофе (1839—1846 гг.). Динамичность, живописность его композиции подчеркнута включением четырехколонного храмика, объединенного с основным объемом глубокой лоджией. Подобный прием был типичен для работ Штакеншнейдера. Он повторил его вскоре в ином контексте в павильоне «Озерки», причем здесь этот прием производит почти курьезное впечатление, поскольку маленький, немасштабный храмик, как бы в половину «натуральной величины», оказывается помещенным на уровне второго этажа.
Есть известная нарочитость в подчеркнуто асимметричном решении этого павильона с его разновеликими объемами, высокой смотровой башней и открытыми галереями, как бы произвольно слепленными в одно живописное целое. Именно благодаря этому его так трудно отличить от другого — «Царицына павильона»; они не индивидуальны, так как составлены из подобных элементов, но в различных сочетаниях.
Естественно, что обе эти постройки имели не так уж много общего с подлинными римскими виллами, хотя их отделка и особенности построения были рассчитаны на прямые ассоциации с ними. Здесь как будто были собраны воедино все приемы, элементы, декоративные мотивы античных вилл вплоть до подлинных античных мозаик, вкомпонованных в пол столовой «Царицына павильона». Зодчий, не стесненный здесь требованиями строгой целесообразности, стремился к максимально свободной, декоративной композиции, которая должна была вызывать романтические ассоциации и своим обликом и своей связью с природой, и близостью к воде. Демонстрация этой свободы на первых порах выливалась нередко в почти наивные формы. Но в наиболее совершенных сооружениях этого времени всё более чувствовалось сознательное стремление к поискам новых пространственных решений, лишь внешне связанных с определёнными прообразами. Это проявилось в необычном рисунке «свободных» от симметрии планов, в динамичности построения объёмов, в объёмно-пространственных решениях интерьеров.
|
|
|
А. И. Штакеншнейдер. Павильон «Озерки» («Розовый») в Петергофе (1845—1848 гг.). Фотография начала XX в. Фотоархив Института археологии АН СССР в Ленинграде. |
|
|
|
А. И. Штакеншнейдер. Павильон на Царицыном острове в Петергофе (1842—1846 гг.). Генеральный план (копия В. Шевцова). Научно-исследовательский музей Академии художеств СССР |
Тенденция к подчёркнутой ассиметрии композиций, к многообразию точек зрения на архитектуру, к неожиданным ракурсам при обходе здания, к пространственной связи его с окружением, типичная для характера загородных построек Штакеншнейдера, в несравненно более законченном и совершенном виде проявилась в работах Г. А. Боссе, где нередко обнаруживаются подлинно новаторские для того времени черты. Это касается прежде всего не стилистических форм фасадов, а объемно-пространственных построений, многие из которых опережали практику тех лет. Но наряду с вещами, вполне ординарными по своему внешнему облику, в творчестве Г. А. Боссе встречаются проекты, поражающие не только новизной приемов, но неожиданностью стилистического решения. В них словно предвосхищаются черты и особенности архитектуры, которые станут определяющими лишь несколько десятилетий спустя.
К таким работам Боссе относится прежде всего выполненный им еще в 1834 г. проект загородного особняка, который не был осуществлен, а потому и прошел как бы незамеченным в его творчестве. Между тем этот скромный, графически тонкий, небольшой проект обнаруживает качества, на первый взгляд представляющиеся совершенно невозможными, необычайными для первой половины XIX в. Более того, вся стилистика этого проекта до такой степени явственно предвосхищает черты модерна, что, не будь на нем собственноручной подписи Боссе и даты исполнения чертежа, его вполне можно было бы принять за произведение зодчего рубежа XX столетия.
В основе композиции этого проекта здесь лежит принципиально новый для своего времени прием: расчленение здания на отдельные, функционально различные объемы, объединенные в единую асимметричную композицию. С одной стороны — в два этажа расположены жилые комнаты с окнами разной формы и разных размеров. С другой— располагается одноэтажный объем зимнего сада со сплошными вертикальными окнами — витражами. Оба эти объема — двухэтажный и одноэтажный объединяет третий объем — башня, превышающая их по высоте и вмещающая главный вход с холлом. Поразителен не только план здания, целиком построенный на принципах целесообразности и не стесненный никакими предвзятостями канонов, но и отдельные его элементы, например высокий вынос кровли, опирающийся на кронштейны, по рисунку необычайно близкие аналогичным деталям в стиле «модерн», или односторонний скат крыши, или рисунок центрального окна башни, освещающего холл.
Естественно, что какие-либо прямые параллели или даже попытки установления непосредственных взаимосвязей между творчеством Боссе и архитектурой начала XX в. были бы искусственной натяжкой. Здесь важно отметить другое: смелую попытку отрешиться от исторических декоративных форм и найти совершенно новые, не окрашенные никакими стилистическими ассоциациями, приемы.
|
|
|
Г. А. Боссе. Проект загородного дома. Фасад и план, 1834 г. |
|
|
|
Г. А. Боссе. Проект собственного особняка. Садовый и уличный фасады, 1850—1854 гг. |
|
|
|
Г. А. Боссе. Проект собственного особняка. Генеральный план. 1850—1854 гг. |
Можно говорить о воздействии на этот проект английских коттеджей и швейцарских шале, но это не изменит основного — новаторской попытки решить архитектуру «внеисторическими» средствами, исходя лишь из конструктивной логики, функциональной оправданности и определенных строительных традиций. Новизна и свежесть облика достигнуты здесь за счет предельной сдержанности и чистоты форм.
Естественно, что такой проект, намного опережающий современные ему потребности и вкусы, не был и не мог быть осуществлен. Естественно также, что, не будучи широко известен, он не мог оказать сколько-нибудь заметного влияния на дальнейшее развитие русской архитектуры. Но он ознаменовал собой рождение совершенно нового отношения к архитектурному организму, получившего здесь наиболее законченное выражение.
О том, что эти тенденции не были случайными и преходящими в творчестве Г. А. Боссе, свидетельствует архитектура его собственного дома, осуществленного в 1850—1854 гг. в Петербурге. Архитектор словно ставит здесь эксперимент, демонстрируя в небольшом двухэтажном здании все новые приемы, отличающие крупные сооружения этого времени, придавая им особый, камерный характер. Городскому особняку, поставленному на тесном участке на красной линии улицы, он сообщает черты загородной постройки, «раскрывая» композицию в сторону крошечного внутреннего садика. Но главным, принципиальным новшеством в объемно-пространственном решении этого особняка являются приемы, аналогичные тем, которые были положены в основу композиции штакеншнейдеровских петербургских дворцов. Это — развитие пространства здания в глубину городского участка так, что система парадных зал оказывается словно нанизанной на ось, перпендикулярную главному уличному фасаду. Перспектива этих парадных помещений, связанных друг с другом большими открытыми проемами, «раскрывается» в сад не только большими окнами, но и каменной открытой террасой с полукруглой лестницей. Жесткие границы прямоугольного плана здесь как бы раздвигаются, «ломаются», его общий причудливый рисунок целиком зависит теперь от расположения и формы внутренних объемов. Определяющей становится незамкнутость, создающая своеобразную незавершенность очертаний плана, он словно разветвляется, все более сливаясь с окружением. «Раскрытость» здания усугубляется устройством нескольких входов, которые связывают парадные помещения непосредственно с садом. Последнее станет впоследствии отличительной чертой произведений Боссе, в особенности его загородных построек в окрестностях Петербурга. При этом наиболее сильной стороной его работ останется их смелое пространственное построение при известной робости и даже отсутствии фантазии в декоративной отделке зданий. Измельченные лепные орнаменты, немасштабные, сильно детализированные скульптуры, дробность членений в оформлении интерьеров и фасадов словно маскируют смелость пространственных решений, свободу и раскованность в рисунке планов, которые определяют новую природу этих сооружений, уже столь далеких от классицизма.
|
|
|
Г. А. Боссе. Проект дворца в Михайловке. Фасад, 1857—1862 гг. |
|
|
|
Г. А. Боссе. Проект дворца в Михайловке. Генеральный план, 1857—1862 гг. |
В 1857—1862 гг. Боссе создает дворец в загородном имении Михайловка в Стрельне, где эти приемы находят наиболее полное и законченное выражение. Зодчий также значительно опередил здесь свое время, оставаясь в то же время целиком в кругу привычных эстетических представлений. План здания, состоящего из объединенных Большого и Малого дворцов, строится по принципу «пчелиных сот» с отдельными группами помещений, примыкающими друг к другу под углом, так что весь план приобретает своеобразный ступенчатый, вытянутый по диагонали рисунок. Его отличительной чертой является такое построение развитых объемно-пространственных композиций, которые как бы пронизывают здание насквозь, образуя не одну, а несколько осей. Каждая из групп помещений, состоящих как из парадных залов, так и из жилых комнат, имеет свои, отдельные выходы в парк, причем решение каждого такого выхода вполне индивидуально. Открытые и закрытые террасы, балконы, замощенные открытые площадки с пологими лестницами и протяженные галереи-перголы, как молы в открытое море, уходящие в зелень парка,— все это придает совершенно особый, неповторимый характер архитектуре, и в особенности плану здания, поражающему оригинальностью и смелостью построения.
«Строение очень обширное, и можно сказать, что оно состоит из двух или даже трех домов, вместе соединенных; в нем множество комнат, отделений, переходов, три двора, три выхода на разные улицы, или три входа» 58 — это описание помпейского «дома Весталок» целиком приложимо к загородным сооружениям Боссе. Вместе с тем планировка его построек иногда напоминает по общим очертаниям и будущие «функциональные» планы XX в. с той разницей, что функциональная целесообразность не была еще определяющей в их построении. Динамичность, выразительность плана, столь впечатляющая в проекте, заметно терялась в реальном здании, где множественность членений оборачивалась нередко видимой хаотичностью объемов и дробностью композиции.
Вместе с тем здесь обнаруживается и еще одно, ставшее типичным для эклектики качество. В отличие от замкнутых в «себе» композиций классицизма с их центростремительной направленностью эта композиция словно нарочито незамкнута, незавершена, «центробежна», она может быть продлена, продолжена в любом направлении, практически до бесконечности.
Трудно представить себе возможность создания органической надстройки над зданием в стиле русского классицизма или какой-нибудь боковой пристройки к его основному объему. В первых же произведениях эклектики эта возможность словно сознательно предусматривалась. Этот расчет на бесконечность вариаций был продиктован лишь отчасти спецификой городского строительства, все усложняющегося в условиях интенсивности роста городов. Как показывают загородные сооружения Боссе и некоторых других архитекторов его времени, природа этой «разомкнутости», потенциальной динамичности, гибкости композиций лежала несравненно глубже, органически исходя из особенностей пространственного мышления зодчих периода эклектики. Эта особенность, связанная с зарождением совершенно нового отношения к пространству в архитектуре и общая для всего европейского зодчества этих лет, наиболее полно проявилась в творчестве Боссе, как бы вобравшем в себя истоки всех тех тенденций, которые получат развитие в будущем. Совершенно закономерным и оправданным представляется поэтому и разработка им проектов, в чем-то перекликающихся с теми европейскими сооружениями середины XIX в., и в частности с «Хрустальным дворцом», пространственная выразительность которых была основана на широком применении металлических конструкций.
Такое сближение с практикой западноевропейской архитектуры можно считать достаточно смелым, если учесть, что в этот ранний период развития эклектики в России конструктивные новшества еще не играли решающей роли в формировании новой структуры сооружений. Это отнюдь не значит, конечно, что в России не получали все большего распространения прогрессивные металлические конструкции. Напротив, они применялись уже в сооружениях русского классицизма. Можно вспомнить металлические фермы Александрийского театра, библиотеки и архива Главного штаба, можно сослаться на новые несгораемые конструкции в восстановленных после пожара залах Зимнего дворца, можно говорить об успехах строительной техники, сделавших возможным воздвижение Александровской колонны и сооружение купола Исаакиевского собора, но совершенно очевидно, что эти достижения на первых порах нигде не повлияли явным образом на изменение структуры, пространственных решений и архитектурных форм классицизма, который в значительной степени тормозил рождение новых приемов. Нужно было, чтобы совершилась коренная ломка художественных представлений в архитектуре, для того чтобы эти конструктивные новшества нашли свое истинное место. В России этот процесс был несколько более продолжительным, чем в европейской архитектуре.
|
|
|
О. Монферран. Конструкции купола Исаакиевского собора. Рисунок 1830-х годов |
|
|
|
Г. А. Боссе. Проект здания для постоянной выставки Российского общества садоводства в Петербурге. Вариант главного фасада, 1860 г. |
«Конструкция как таковая представляла собой как бы подсознательную сторону архитектуры, в ней были потенциально заложены импульсы, которые гораздо позже получили теоретическое обоснование и объяснение» 59. Представляется, что эта «подсознательность» была в особенности присуща русской архитектуре, где приемы строительной техники и строительные конструкции долгое время были более традиционными, чем в Западной Европе. Если можно говорить о явном влиянии новых металлических конструкций на зарождение небывалых пространственных решений и формирование принципиально новых эстетических концепций в европейском зодчестве, то при всем желании это очень трудно сделать по отношению к русской архитектуре середины XIX в. Естественно, что расширение технических возможностей и усовершенствование конструкций не могло не влиять и на русскую архитектуру, давая ей все большую творческую свободу и позволяя осуществлять все более смелые композиционные решения зданий. Но, как правило, они не обладали еще принципиальной новизной пространственных решений, как, например, Хрустальный дворец Пэкстона (1851) или Национальная библиотека Лабруста (1858), где новаторство архитектурного образа целиком определено возможностями прогрессивных металлических конструкций. Созданный в 1860 г. Боссе проект здания постоянной выставки Всероссийского общества садоводства в Петербурге реализовал именно эту линию развития архитектуры XIX в.— не вписывая здание в окружающее пространство, а как бы «окружая пространство» сооружением из металла и стекла. Цельное внутреннее пространство, перекрытое металлическими конструкциями без внутренних опор, включало в себя свободно распланированный сад с причудливым рисунком дорожек.
Может быть, отчасти и этот проект, получивший тогда достаточно широкую известность, послужил наряду с европейскими образцами, и прежде всего — Хрустальным дворцом, основой для той фантастической архитектуры, которую нарисовал Чернышевский всего через три года в романе «Что делать?» Во всяком случае, к этому проекту вполне применимо описание Чернышевского: «Но это здание — что ж это, какой оно архитектуры? Теперь нет такой; нет, уж есть один намек на нее — дворец, который стоит на Санденгамском холме: чугун и стекло, чугун и стекло только. Нет, не только: это лишь оболочка здания; это его наружные стены; а там, внутри, уж настоящий дом, громаднейший дом: он покрыт этим чугунно-хрустальным зданием, как футляром; оно образует вокруг него широкие галереи по всем этажам. Какая легкая архитектура этого внутреннего дома, какие маленькие простенки между окнами — а окна огромные, широкие, во всю ширину этажей!.. И повсюду южные деревья и цветы; весь дом — громадный зимний сад» 60. Представляется, что Чернышевский очень точно уловил те тенденции в архитектуре, которые уже «носились в воздухе», и дал не картину далекого будущего, а анализ сооружений и проектов, которые уже возникали и обсуждались в периодической печати 61.
Это почти чисто инженерное сооружение кажется необычайно органичным для творчества Боссе, обычно намного опережавшего в своих работах те тенденции, которые позднее станут определяющими.
Эти тенденции, во многом связанные с общеевропейскими процессами, происходящими в архитектуре середины столетия, сказались не только в типичном для эклектики разнообразии в выборе декоративных форм, но и в зарождении совершенно нового отношения к пространству в архитектуре, повлекшему за собой кардинальные перемены в планировке и общей композиции зданий. Это сказалось в структуре сооружений самого различного назначения — первых железнодорожных вокзалов, где остекленные перекрытия образовывали совершенно новые по характеру просторные крытые перроны, куда свободно входили «локомотивы», первых пассажей с уходящими вглубь светлыми галереями, выставочных залов, освещенных верхним светом, крытых рынков и банковских операционных залов с остекленными световыми куполами и, наконец, обширных остекленных зимних садов в богатых особняках, создающих иллюзию непосредственной связи с природой, объединения внешнего и внутреннего пространства, когда анфилада парадных зал, пронизав здание насквозь, словно прорывается во вне сквозь зелень зимнего сада.
«Простор внутри здания приводит меня в такой восторг, доставляет мне такое наслаждение, что, если бы я достигнул его, я, кажется, готов бы был пожертвовать для него простором полей» 62 — эти слова Вильяма Морриса, сказанные уже в 1891 г., прекрасно выразили ту «тоску по пространству», которая вдохновляла лучших архитекторов XIX столетия. Но в какой-то мере эти слова были, как представляется, и реакцией очевидца на ту все возрастающую перенасыщенность деталями, загроможденность интерьеров, которая была выражением одного из главных определяющих противоречий архитектурного мышления и реальной архитектурной практики периода эклектики, взявшего начало еще в 1840-х годах.
Несоответствие между свободным объемно-пространственным решением интерьеров и реальным «заполнением», а на деле — просто затеснением этого пространства должно быть особо подчеркнуто, как одно из характернейших качеств архитектуры второй половины XIX в. Не имея возможности специально остановиться на сложнейшей проблеме решения интерьеров этого времени, что составляет совершенно самостоятельную тему исследования 63, следует отметить наиболее важную их особенность. Она заключалась в том, что при все более смелых и разнообразных пространственных решениях, в особенности в общественных и дворцовых сооружениях, но также и в жилых домах и особняках, «наполнение», оформление интерьеров в различных стилях вскоре свелось к совершенно определенному стереотипу, как будто призванному к тому, чтобы максимально смягчить пространственный эффект, «заглушить» в буквальном смысле этого слова небывалое ощущение простора от слияния отдельных пространств, сделать интерьеры максимально более соразмерными человеку, «обжить» их, создать насыщенную, даже перенасыщенную, теплую, благоприятную для обитания архитектурную среду. Это касалось как совершенно новых принципов расстановки мебели, заполняющей все свободное пространство и подразделяющей его на отдельные «уголки» (наиболее компактным воплощением этого принципа было, например, расположение мебели, запроектированное арх. И. А. Монигетти для кабинета в Ливадийском дворце), так и тех приемов оформления интерьеров, которые должны были, максимально связать «обстановку» с декоративным убранством стен. Насыщенность поверхностей стен, пола и потолка, заполнение всех «пустот» декоративными деталями, драпировками, портьерами, занавесями, трельяжами, низко свисающими люстрами сложного рисунка, настенными бра и светильниками — все это создавало совершенно особое ощущение от интерьеров, словно поглощающих человека.
Другой особенностью интерьеров этого времени, получившей дальнейшее развитие в последующие десятилетия, было то тяготение к разнообразию впечатлений, которое сделало закономерным для творчества зодчих введение разных «стилей» для оформления прилегающих друг к другу помещений. Пресловутое «многостилье» эклектики во многом покоилось на стремлении к максимальному контрасту между отдельными интерьерами, как бы «оттеняющими» друг друга при их последовательном восприятии в движении, во времени.
|
|
|
И. А. Монигетти. Проект дворца в Ливадии. План расстановки мебели в кабинете, 1866 г. |
|
|
|
Интерьер Золотой гостиной в Зимнем дворце. Акварель, середина XIX в. |
|
|
|
А. И. Резанов. Дворец Влад. Александровича в Петербурге (1867—1872 гг.). Парадная лестница. Фотография начала XX в. |
Двусветное «воздушное» пространство мраморной парадной лестницы с причудливым рисунком пологих маршей, насыщенное белыми деталями и позолотой «рокайльное» убранство танцевальной залы, полусумрак «готического» кабинета и «мавританской» гостиной, тяжелые темные дубовые резные панели столовой в «русском вкусе» и, наконец, зеленые заросли наполненного светом и воздухом, остекленного снизу доверху «зимнего сада» — таков был, например, состав парадных помещений в так называемом Дворце Владимира Александровича в Петербурге (1867—1872 гг., арх. А. И. Резанов). Чередование всех этих впечатлений должно было производить совершенно особый художественный эффект, подобный быстрой смене маскарадных одежд, каждый раз по-новому настраивающих человека. Это стремление к активному воздействию архитектурной среды, к постоянному взаимодействию человека с этой средой наложило отпечаток и на рядовые жилые интерьеры второй половины XIX в. Был создан своего рода стилевой «код» для каждого помещения. Такая дифференциация назначения отдельных комнат, оформляемых в общепринятом «стиле», была отнюдь не стихийным явлением, а сознательным, глубоко продуманным, можно даже сказать, по-своему рациональным приемом.
Именно эту «рациональную», рассудочную сторону эклектики, строгий расчет, даже экономичность решений в сочетании с впервые обретенной свободой выбора композиционных и декоративных приемов наиболее ценили современники в формирующейся у них на глазах архитектуре, прощая ей ту заимствованность художественных средств, которую они оценивали иногда достаточно трезво.
«Строительное искусство, неуклонно следуя вперед, было постоянною спутницею прогресса. Впрочем, не все такого мнения. Некоторые находят доказательства безотрадного состояния нашего искусства в том, что наш век не произвел ни одного оригинального стиля, наподобие греческого, византийского. Правда, в архитектурных произведениях последних времен мы большею частью видим заимствования, подражание прежнему; искусство, бессильное создать новое, соответственное себе одеяние, как бы покрывается старыми лохмотьями»,— говорил в 1860 г. архитектор П. Сальмонович, словно предваряя ту критику, которую впоследствии навлечет на себя эклектика. Но он видел и другую сторону явлений. «Современное искусство,— говорил он далее,— освободившись от всякой безотчетности, рутины, произвола, неуклонно следует вперед по прямому пути, указанному ему, с одной стороны, законами науки, с другой — потребностями жизни. Неизвестно, что ожидает его в будущем, какие оно примет оттенки, какие открытия озарят ему дальнейший путь и развитие; одно не подлежит сомнению, что настоящее его блистательно и что ввиду всех экономических и радикальных усовершенствований, которые мы видим в настоящую пору, без труда можно помириться с недостатком в нем оригинального или самобытного стиля.
Стиль возникает сам собою в то время, когда самая жизнь преобразится настолько, что подражание в искусстве далекому прошлому сделается смешным анахронизмом» 64. Эти слова, произнесенные за год до реформы 1861 г., определившей начало нового исторического этапа в развитии России, не только подводили итоги почти двадцатилетнего развития архитектуры эклектики, которое представлялось современникам бесспорным прогрессом, но и очень точно обосновывали «преходящесть», временность, переходность этого направления и неизбежность его будущего кризиса.
А. Е. Борисова. Русская архитектура второй половины XIX века. Наука, 1979

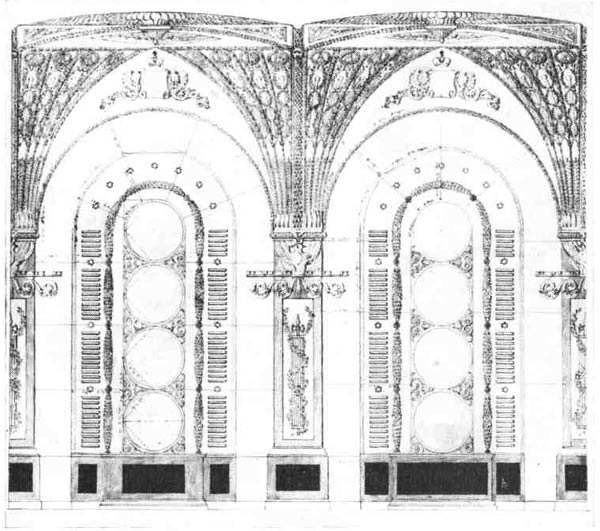


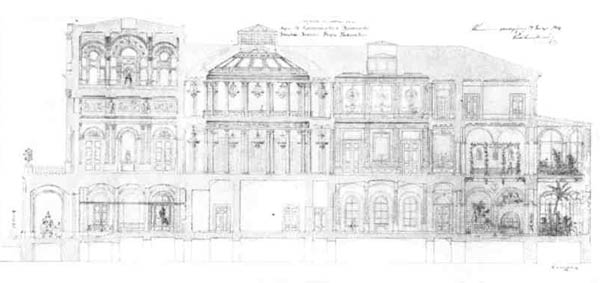
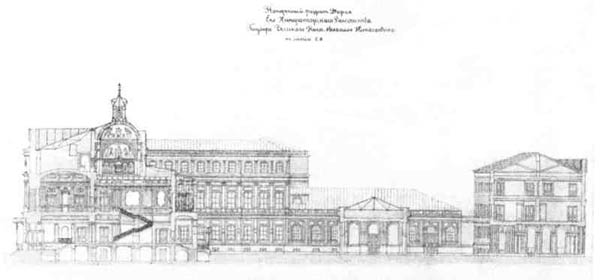
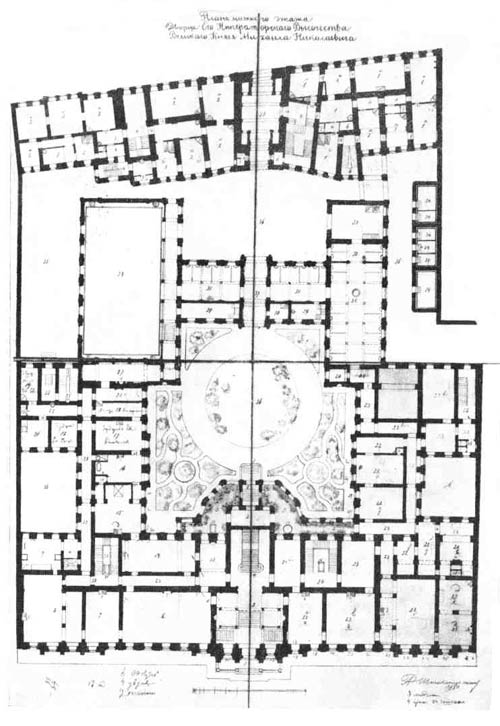


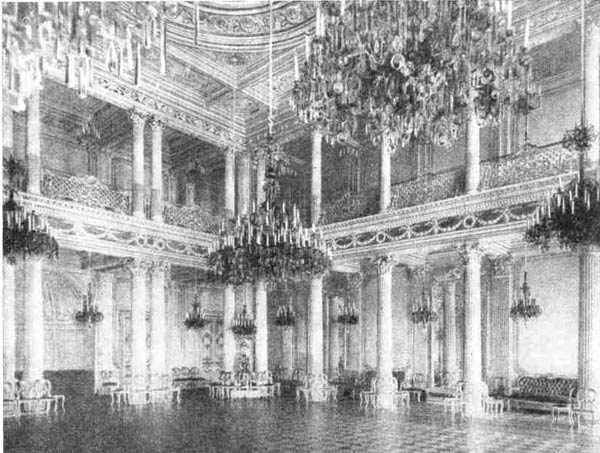


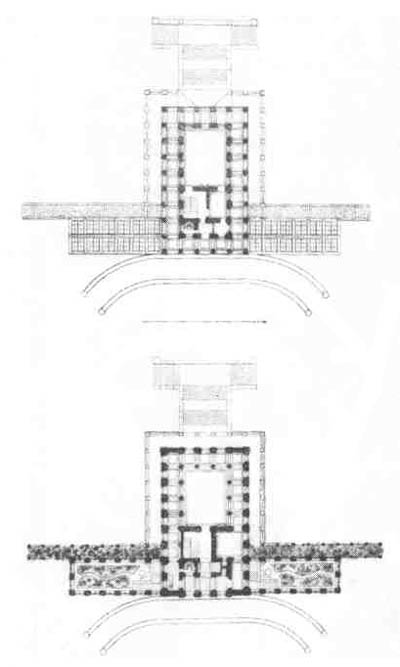


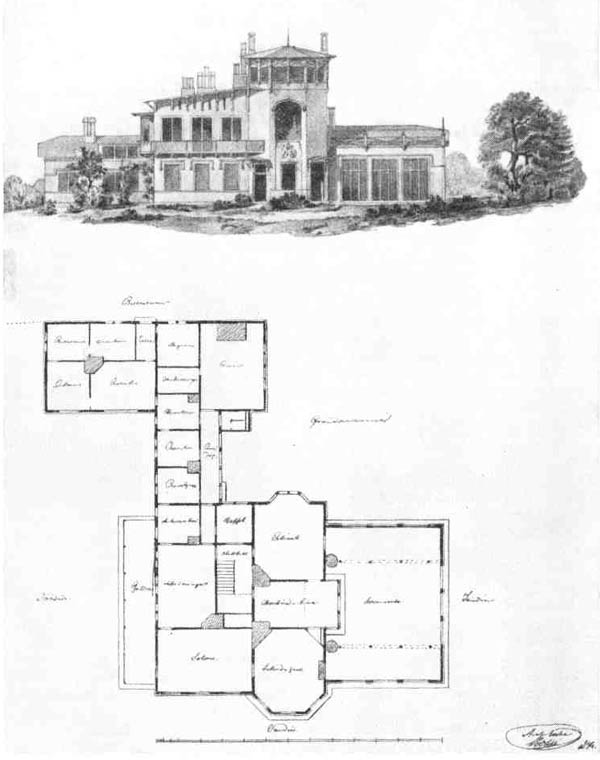
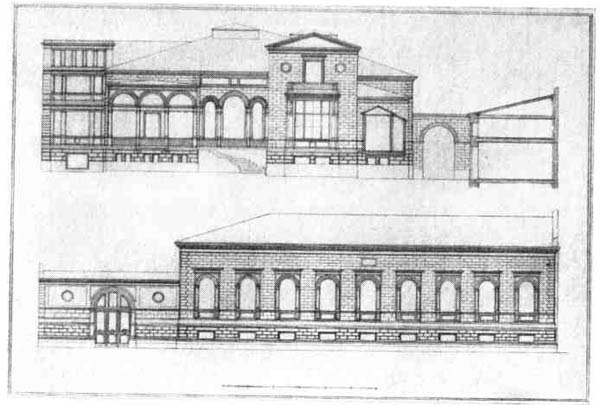
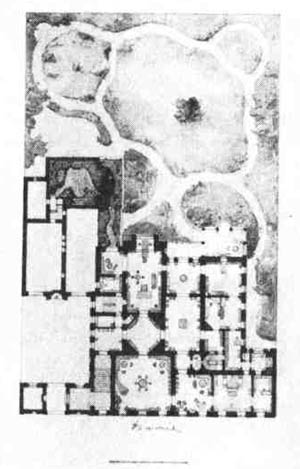

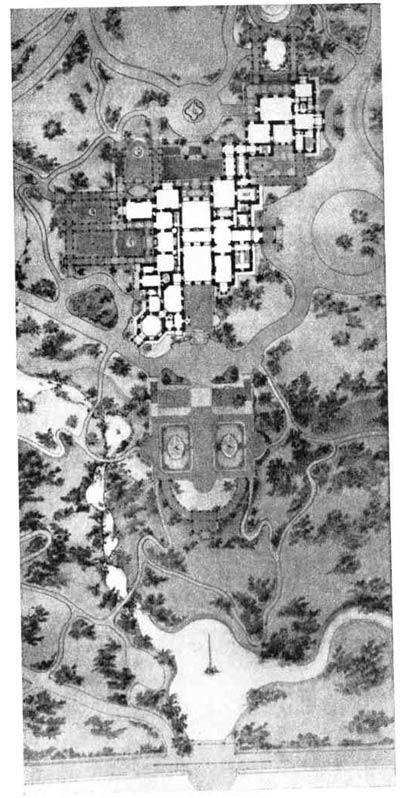
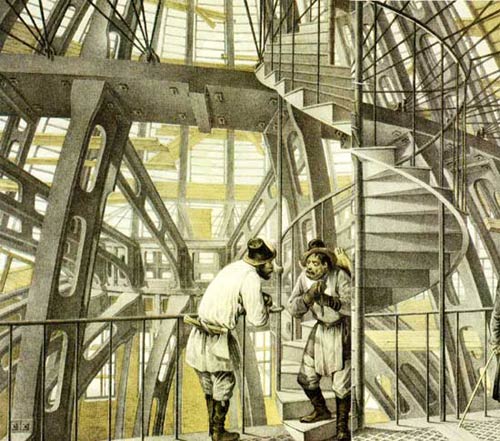
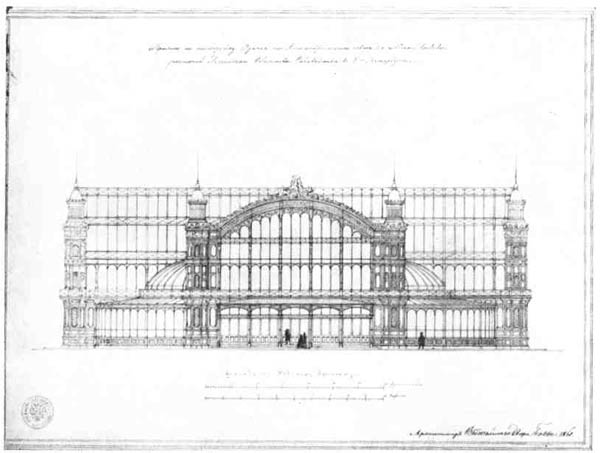
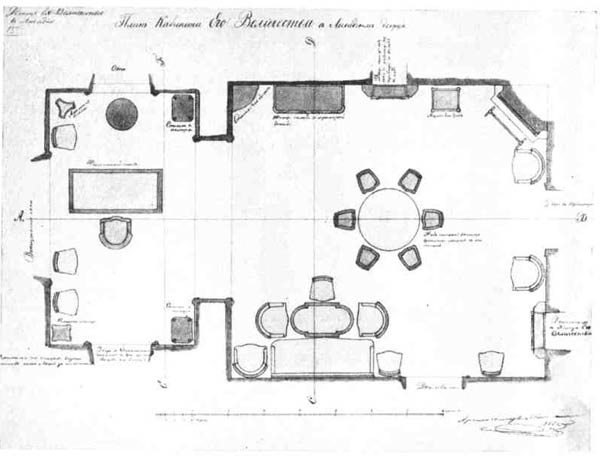

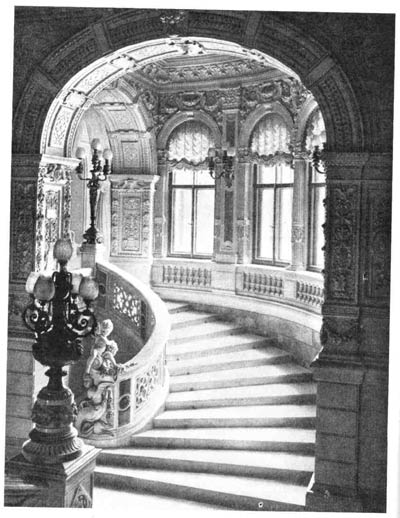

Комментарии
Гость
пт, 05/23/2014 - 13:34
Постоянная ссылка (Permalink)
Дом Боссе осуществлен и
Добавить комментарий